Господин снотворное
Повесть
Основана на реальных событиях.
Имена героев изменены.
Имена героев изменены.
<<<Оглавление
I часть
I. Начало. II. Кот. III. Тепличные условия. IV. Гоша. V. Лерина улыбка. VI. "Where did you sleep last night". VII. Отношения. VIII. Хата. IX. В девственный локтевой.
II часть
X. Гудки. XI. Птица Чарли. XII. Прошедшее время. XIII. У Салютика. XIV. Университеты. XV. Глюки. XVI. Двушка. XVII. Ну, бывает. XVIII. Перчатки. XIX. Проводы. XX. Гудбай, 90-е! XXI. Куранты (Марина). XXII. Звонок.
I. Начало. II. Кот. III. Тепличные условия. IV. Гоша. V. Лерина улыбка. VI. "Where did you sleep last night". VII. Отношения. VIII. Хата. IX. В девственный локтевой.
II часть
X. Гудки. XI. Птица Чарли. XII. Прошедшее время. XIII. У Салютика. XIV. Университеты. XV. Глюки. XVI. Двушка. XVII. Ну, бывает. XVIII. Перчатки. XIX. Проводы. XX. Гудбай, 90-е! XXI. Куранты (Марина). XXII. Звонок.
I часть
I. Начало
Дверь подъезда открывается, и яркий дневной свет, словно скорпион, жалит мне глаза. По ступеням медленно ползет квадрат сырого солнца, врастая в коридор и наполняя пролеты теплом. Этот город все четыре сезона носит на себе громоздкие, дребезжащие латы осадков, но сегодня к полудню не пролилось ни капли.
Я не видел утра уже несколько месяцев, и мысль о том, что ночь — время года, а не дня, кажется мне вполне реальной. Я нашариваю в пальто немного мелочи, бросаю в щель автомата и снимаю трубку. На другом конце никто не отвечает. Ничего. Ничего. Я уворачиваясь от солнечных лучей, надвигаю шляпу на глаза и жду, слушая гудки.
Кхекхм!
Меня зовут господин Снотворное.
Я — ветер в пустом гнезде. Мое дыхание — чья-то жизнь. Мои глаза — грезы. Когда я есть, больше ничего не надо. Я тот, к кому заходят часто.
Тысячи лет я был лучшим из лекарств. Я помогал от диареи и болезней глаз, психических расстройств, дизентерии и кишечных колик, сердцебиений, выкидышей и оспы, истерии, коклюша, ипохондрии, сифилиса и туберкулеза. Меня прописывали как средство от любых мук.
Древние массагеты бросали меня в костер и опьянялись дымом моих плодов, подобно тому, как эллины опьянялись вином. Великий Ост-Индский морской караван плелся из Европы в Азию, нагруженный мною до краев. За меня и от моего имени велись войны. Я был драгоценностью, свободно конвертируемой валютой, я был оружием и лекарством, я был товаром и превращал в товар других.
Кххххк, пфу.
Но это вовсе не начало моей истории. История, которую я хочу рассказать, начинается с паренька по прозвищу Кот.
Я не видел утра уже несколько месяцев, и мысль о том, что ночь — время года, а не дня, кажется мне вполне реальной. Я нашариваю в пальто немного мелочи, бросаю в щель автомата и снимаю трубку. На другом конце никто не отвечает. Ничего. Ничего. Я уворачиваясь от солнечных лучей, надвигаю шляпу на глаза и жду, слушая гудки.
Кхекхм!
Меня зовут господин Снотворное.
Я — ветер в пустом гнезде. Мое дыхание — чья-то жизнь. Мои глаза — грезы. Когда я есть, больше ничего не надо. Я тот, к кому заходят часто.
Тысячи лет я был лучшим из лекарств. Я помогал от диареи и болезней глаз, психических расстройств, дизентерии и кишечных колик, сердцебиений, выкидышей и оспы, истерии, коклюша, ипохондрии, сифилиса и туберкулеза. Меня прописывали как средство от любых мук.
Древние массагеты бросали меня в костер и опьянялись дымом моих плодов, подобно тому, как эллины опьянялись вином. Великий Ост-Индский морской караван плелся из Европы в Азию, нагруженный мною до краев. За меня и от моего имени велись войны. Я был драгоценностью, свободно конвертируемой валютой, я был оружием и лекарством, я был товаром и превращал в товар других.
Кххххк, пфу.
Но это вовсе не начало моей истории. История, которую я хочу рассказать, начинается с паренька по прозвищу Кот.
II. Кот
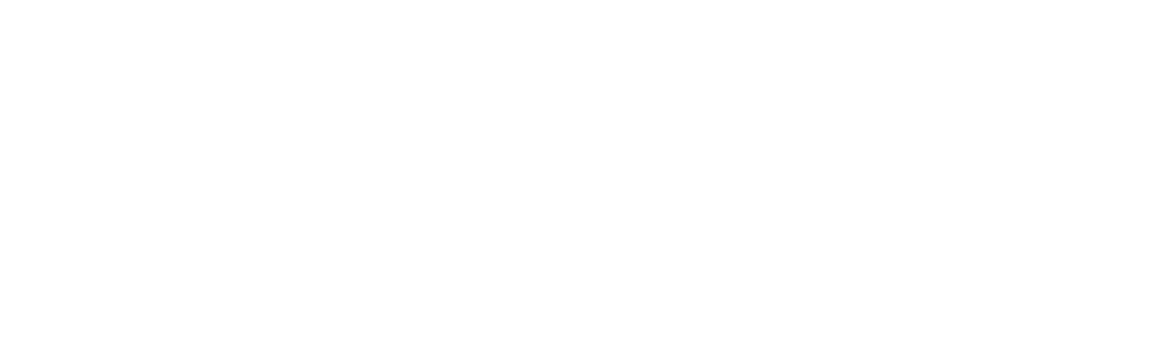
Он сидит на школьной площадке. Его глаза полуприкрыты, а на тлеющей между пальцами сигарете застыла — вот-вот отвалится — горка черного пепла. К середине этого жаркого, будто запущенного, лета площадка по колено заросла травой. Вокруг никого. Дети редко заходят сюда поиграть. Весь микрорайон знает: школьный двор облюбовали взрослые мальчишки, у которых тут свои, мало кому понятные забавы.
Футбольное поле опоясывает изрытая трещинами асфальтовая дорожка. У ее края в землю врыты толстые автомобильные покрышки. На одной из них сидит Кот.
Футбольное поле опоясывает изрытая трещинами асфальтовая дорожка. У ее края в землю врыты толстые автомобильные покрышки. На одной из них сидит Кот.
С каждой затяжкой он все сильнее погружается в сон или нечто более глубокое, чем сон.
или
нечто
нечто
Я смотрю его глазами и вижу, как между чернеющими горами многоэтажек ползет наточенный до блеска по краям солнечный диск, будто невидимый токарь выпиливает отверстие в небесной скорлупе. Прохладная голубая трава бушует — она мне по щиколотку, по колено, потом по шею, я зарастаю травой и ухожу корнями в землю.
более
глубокое,
глубокое,
Я превращаюсь в дерево и втягиваю влагу из почвы. Мои зеленые листья тянутся к солнцу. Мои плоды наливаются и, переспелые, лопаются прямо на ветвях. По мне ползут насекомые, птицы садятся на мои гнущиеся от ветра предплечья.
чем
сон
сон
Мимо пролетает комар, разрезая мир надвое зудом своих крыльев. Я вижу, как на краешке крыла нацарапано «Интерзона-97», но меня это не удивляет и не цепляет. Набухшие плоды срываются с ветвей. В высокую траву они падают уже гнилыми, червивыми и черными.
Кот открывает глаза: на пожелтевших вареных джинсах остались черные разводы от пепла. Окурок давно дотлел.
Вставать не хочется, да и не можется. Кот стряхивает пепел с коленей, закуривает еще одну сигарету и снова погружается в короткое, сладкое, как шоколад «Аленка», видение.
Через двадцать минут они забились с Гошей глотнуть пива у продуктового магазина. Гоша — из новоиспеченных, года на три младше. Гоша учится в десятом классе той же школы, которую закончил Кот. Школы, перетерпевшей не одно поколение пацанов с Южного микрорайона, что стоит на краю города И***, за перелеском, неподалеку от питающей городской юг полувековой ТЭЦ.
Вставать не хочется, да и не можется. Кот стряхивает пепел с коленей, закуривает еще одну сигарету и снова погружается в короткое, сладкое, как шоколад «Аленка», видение.
Через двадцать минут они забились с Гошей глотнуть пива у продуктового магазина. Гоша — из новоиспеченных, года на три младше. Гоша учится в десятом классе той же школы, которую закончил Кот. Школы, перетерпевшей не одно поколение пацанов с Южного микрорайона, что стоит на краю города И***, за перелеском, неподалеку от питающей городской юг полувековой ТЭЦ.
III. Тепличные условия
Кот поднялся с колеса, и последние капли сна рассеялись. Оказалось, пока он приходовался, рядом было полно народу — мелкие мальчишки играли в футбол в одни ворота, постарше — выжимали пятерочку на турниках, две молодые мамы с колясками огибали хоккейную коробку, что стояла по соседству с футбольным полем.
Захотелось поблевать. Чтобы не палиться и унять тошноту, Кот отправился к магазину.
Кот познакомился с Гошей совсем недавно. Гоша висел от кайфа на волоске — сам не торчал, но уж очень интересовался, все время крутился рядом, расспрашивал, что да как. Кот готовил его не торопясь, с каждым днем приближая момент первого прихода, который, как известно, ни с чем не сравнить.
Гоша сидел на крыльце, посасывая пиво из банки. Долговязый, не так давно вымахавший подросток, Коту он показался одновременно утонченным и смешным. Его черная шелковая рубашка была наполовину расстегнута и выпростана из джинсов. Гоша задумчиво разглядывал выбоину в тротуарной плитке, а длинные, словно созданные для музыкального инструмента, пальцы обнимали жестянку с кислым пивом.
Едва они познакомились, Кот отметил: «Парень из благополучных». У Гошиного папы, и правда, был тогда свой небольшой бизнес, а мама работала главбухом швейного цеха. «Значит, водятся бабки. Очень хорошо».
Как и многие ребята, воспитанные дома, в тепличных условиях, Гоша изо всех сил рвался на улицу, туда, где кипела настоящая жизнь. В старших классах он был почти круглым отличником, но успел набраться дворового гонора, в аккурат, чтобы в любой подворотне Южного сойти за своего.
— Гох, ты че какой мутный?
— Здорово, Кот.
— Не грусти, дай пивка глотнуть.
Мимо проулыбались две девочки. Одну из них Гоша знал, с другой мечтал познакомиться. Та, которую знал, спросила:
— Идете на рейв в «Трансмиссию»?
— Конечно идем, цыпы. — сказал Кот.
— Посмотрим. — ответил Гоша.
Та, которую Гоша знал, Марина, представила ребят своей однокласснице. Ее звали Лера. Лера давно нравилась Гоше. В ответ на рукопожатие, она кокетливо наклонила белокурую ангельскую головку и улыбнулась, отчего на щеках выступили очаровательные ямочки.
— Тогда увидимся. — девчонки засверкали ножками в сторону пятиэтажек.
Лера ушла, а ее улыбка как будто осталась, повисла в воздухе. И от этой улыбки, от ее симпатичных ямочек Гоше было легко и хорошо. И никакие проблемы, сгустившиеся в последнее время над головой, не могли его достать. Главное – вечером быть в «Трансмиссии».
Вместе с Котом они отправились в гараж к какому-то парнишке с соседнего района. Тот обещал Коту дать мотоцикл прокатиться.
— А если не даст?
— Полюбому даст. Не даст — получит по печени.
— А у тебя права есть?
— Да не ссы, покатаемся и отдадим.
Кот поднялся с колеса, и последние капли сна рассеялись. Оказалось, пока он приходовался, рядом было полно народу — мелкие мальчишки играли в футбол в одни ворота, постарше — выжимали пятерочку на турниках, две молодые мамы с колясками огибали хоккейную коробку, что стояла по соседству с футбольным полем.
Захотелось поблевать. Чтобы не палиться и унять тошноту, Кот отправился к магазину.
Кот познакомился с Гошей совсем недавно. Гоша висел от кайфа на волоске — сам не торчал, но уж очень интересовался, все время крутился рядом, расспрашивал, что да как. Кот готовил его не торопясь, с каждым днем приближая момент первого прихода, который, как известно, ни с чем не сравнить.
Гоша сидел на крыльце, посасывая пиво из банки. Долговязый, не так давно вымахавший подросток, Коту он показался одновременно утонченным и смешным. Его черная шелковая рубашка была наполовину расстегнута и выпростана из джинсов. Гоша задумчиво разглядывал выбоину в тротуарной плитке, а длинные, словно созданные для музыкального инструмента, пальцы обнимали жестянку с кислым пивом.
Едва они познакомились, Кот отметил: «Парень из благополучных». У Гошиного папы, и правда, был тогда свой небольшой бизнес, а мама работала главбухом швейного цеха. «Значит, водятся бабки. Очень хорошо».
Как и многие ребята, воспитанные дома, в тепличных условиях, Гоша изо всех сил рвался на улицу, туда, где кипела настоящая жизнь. В старших классах он был почти круглым отличником, но успел набраться дворового гонора, в аккурат, чтобы в любой подворотне Южного сойти за своего.
— Гох, ты че какой мутный?
— Здорово, Кот.
— Не грусти, дай пивка глотнуть.
Мимо проулыбались две девочки. Одну из них Гоша знал, с другой мечтал познакомиться. Та, которую знал, спросила:
— Идете на рейв в «Трансмиссию»?
— Конечно идем, цыпы. — сказал Кот.
— Посмотрим. — ответил Гоша.
Та, которую Гоша знал, Марина, представила ребят своей однокласснице. Ее звали Лера. Лера давно нравилась Гоше. В ответ на рукопожатие, она кокетливо наклонила белокурую ангельскую головку и улыбнулась, отчего на щеках выступили очаровательные ямочки.
— Тогда увидимся. — девчонки засверкали ножками в сторону пятиэтажек.
Лера ушла, а ее улыбка как будто осталась, повисла в воздухе. И от этой улыбки, от ее симпатичных ямочек Гоше было легко и хорошо. И никакие проблемы, сгустившиеся в последнее время над головой, не могли его достать. Главное – вечером быть в «Трансмиссии».
Вместе с Котом они отправились в гараж к какому-то парнишке с соседнего района. Тот обещал Коту дать мотоцикл прокатиться.
— А если не даст?
— Полюбому даст. Не даст — получит по печени.
— А у тебя права есть?
— Да не ссы, покатаемся и отдадим.
IV. Гоша
Господин Снотворное о Гоше:
Гоша — один из лучших, кто у меня был. Мой провинциальный мальчик-звезда.
... Высокий, темноволосый, с честно-голубыми глазами. Смотришь в них — темная вода. Зайдешь поглубже — казавшаяся тихой запрудой бурная речка уносит течением: чем дольше смотришь, тем дальше от берега уплываешь. Ласковые голубые зеркала. Все в них видно, всегда им веришь. Даже когда бесстыдно врут.
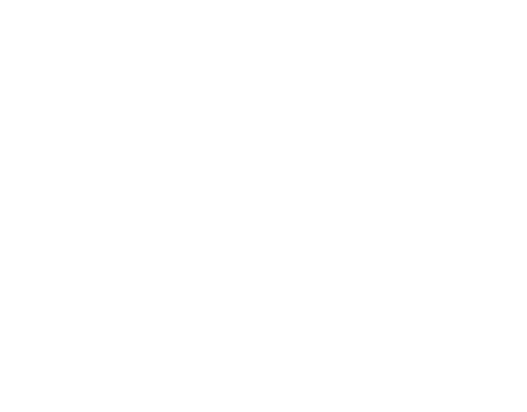
Гошу любят. Учителя, подружки мамы и соседи — как талантливого и перспективного парня. Говорят, его ждет большое будущее. Станет президентом или, по крайней мере, прокурором. Дворовые пацаны — как заводилу, с гитарой за плечом и охапкой горланистых песен от «Кино» до «Нирваны».
Старшеклассницы вздыхают по нему и подбрасывают записочки в почтовый ящик. Вместе с газетами и почтовой рекламой их забирает впечатлительная Гошина мама.
Старшеклассницы вздыхают по нему и подбрасывают записочки в почтовый ящик. Вместе с газетами и почтовой рекламой их забирает впечатлительная Гошина мама.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Я достану его. Я сделаю из него настоящую звезду.
Мама с папой мечтали, что Гоша поступит в университет. Из обычной школы его перевели в гимназию на другом конце города. В мечтах они строили для сына взвешенный и последовательный жизненный план: получить высшее образование, устроиться на хорошее место – Гошин папа пол-жизни был работягой и настаивал, чтобы сын «перекладывал бумажки», а не «месил раствор в корыте» — завести семью и спокойно жить. Но ездить в гимназию, как и спокойно жить, Гоше было влом.
Уроки он прогуливал чаще всего с друзьями на районе. С утра как будто уезжал на учебу, а сам заходил в соседний дом к Юрику или Чижу — туда, где можно было попыхать план, под пивко послушать рок и в который раз поржать над засмотренной до дыр комедией. Со временем друзья попадались и получали нагоняй от родителей, а Гоша искал себе новое место, чтобы коротать паскудно тянущиеся деньки.
Скоро идти стало некуда. Тогда Гоша отправлялся в парк или уезжал в центр. Он искал себе знакомых, чью голову, как и его, занимали бы гранж и панк-рок, девочки, водка и план. Сидя на лавке в одном из тихих сквериков в центре И***, Гоша повстречал Кота. Кот, как и он, жил в Южном, почти по соседству.
Уроки он прогуливал чаще всего с друзьями на районе. С утра как будто уезжал на учебу, а сам заходил в соседний дом к Юрику или Чижу — туда, где можно было попыхать план, под пивко послушать рок и в который раз поржать над засмотренной до дыр комедией. Со временем друзья попадались и получали нагоняй от родителей, а Гоша искал себе новое место, чтобы коротать паскудно тянущиеся деньки.
Скоро идти стало некуда. Тогда Гоша отправлялся в парк или уезжал в центр. Он искал себе знакомых, чью голову, как и его, занимали бы гранж и панк-рок, девочки, водка и план. Сидя на лавке в одном из тихих сквериков в центре И***, Гоша повстречал Кота. Кот, как и он, жил в Южном, почти по соседству.
Они были разные.
Кот — хулиган
Не раз попадал в детскую комнату милиции. С ранних лет усваивал уличную науку: брал то, что плохо лежит, и продавал, что нельзя, тем, кто этого очень хочет.
Гоша — почти отличник
За успехи в учебе и активную жизненную позицию ездил летом в Артек. В старших классах играл и пел гимназической рок-группе.
Вместе с Котом в тот день был Шахов, высокий и симпатичный парень со шрамом на шее и играющими скулами. Он стоял, то и дело почесываясь, а недобрые глаза-угольки полыхали из темных подглазин.
Гошу подкупила их крутизна: на районе с компанией Кота и Шахова никто не хотел связываться. Еще было в них что-то интересное. Они были какие-то не такие, внесистемные что ли: сторонились тех, у кого все по порядку, школа-дом-институт, не уважали ни дворовых забулдыг, подсевших на алкашку, ни бандитов из подворотни. Жили сами по себе и в свое удовольствие. На кармане у них постоянно водились деньги и, кажется, им все было ни по чем.
Гошу подкупила их крутизна: на районе с компанией Кота и Шахова никто не хотел связываться. Еще было в них что-то интересное. Они были какие-то не такие, внесистемные что ли: сторонились тех, у кого все по порядку, школа-дом-институт, не уважали ни дворовых забулдыг, подсевших на алкашку, ни бандитов из подворотни. Жили сами по себе и в свое удовольствие. На кармане у них постоянно водились деньги и, кажется, им все было ни по чем.
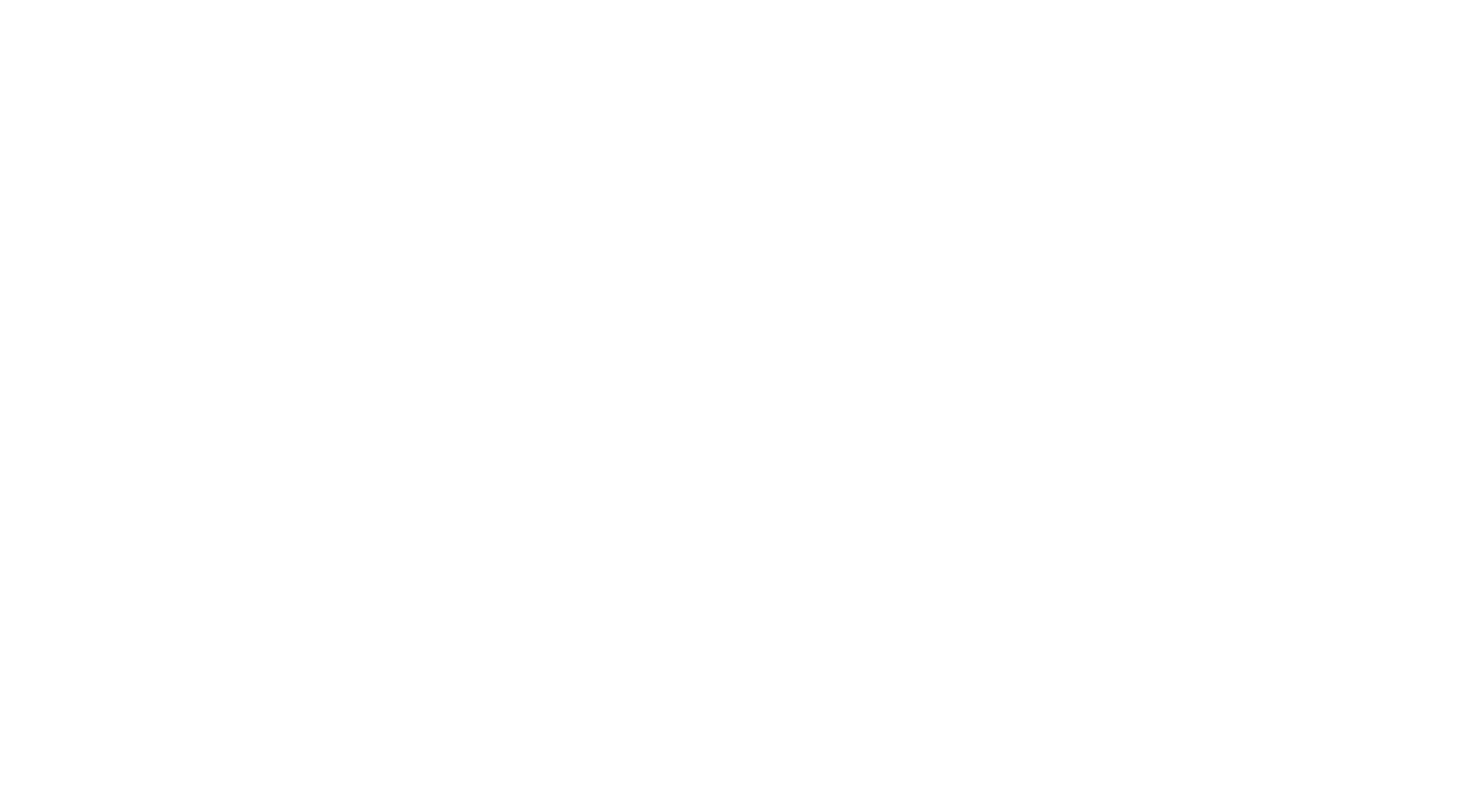
V. Лерина улыбка
Прикончив пиво, Кот с Гошей пошли через поле в соседний район, к гаражам. Парню, и правда, дали пару раз по печени, так что он отдал свою Яву без особых возражений. Вот только покататься нормально не пришлось: через полчаса, выехав на загородную трасс парни угодили в столб, перевернулись и погнули руль. Сами остались целы, но возвращать транспорт в таком виде уже было как-то неприлично. Оставили, как есть, на дороге и пешим ходом вернулись к вечеру на район. Благо, было не так далеко.
Весь день Гоша не мог выпустить из головы ту Лерину улыбку. Подаренная только ему, а может быть, целому миру, она грела его, слепила и жгла изнутри.
Он не чувствовал земли под ногами. Пока они с Котом шли по тропинке, соединявшей перелесок, частный сектор и микрорайон, он подставлял ладони навстречу кивающей колосками, высокой в это лето траве. Неприятный осадок от случая с мотоциклом быстро улетучился, но разговаривать было не охота, и они с Котом всю дорогу молчали. Мысли в Гошиной голове приятно разбегались и теряли очертания, как оплывшие контуры на засвеченной фотопленке. Он ждал вечернего рейва.
Весь день Гоша не мог выпустить из головы ту Лерину улыбку. Подаренная только ему, а может быть, целому миру, она грела его, слепила и жгла изнутри.
Он не чувствовал земли под ногами. Пока они с Котом шли по тропинке, соединявшей перелесок, частный сектор и микрорайон, он подставлял ладони навстречу кивающей колосками, высокой в это лето траве. Неприятный осадок от случая с мотоциклом быстро улетучился, но разговаривать было не охота, и они с Котом всю дорогу молчали. Мысли в Гошиной голове приятно разбегались и теряли очертания, как оплывшие контуры на засвеченной фотопленке. Он ждал вечернего рейва.

Два часа спустя, увидев Леру в клубе, Гоша уже не отходил от нее. Кот все понял, и исчез куда-то по своим делам. Гоша остался развлекать Леру и ее подружку Марину. Очень скоро, почувствовав себя лишней, Марина ушла танцевать и уже не вернулась.
Когда рейв закончился, Гоша пошел провожать Леру домой. Покружив между спящими пятиэтажками, они до утра стояли на подъездной площадке, перешептываясь и подолгу целуясь. Если бы кто-то посторонний мог подслушать, о чем они шептались, он бы ровным счетом ничего не понял. Фразочки из фильмов и песен, полуслова-полунамеки, – они на ходу придумывали птичий язык, который был понятен лишь им двоим.
Они болтали без умолку, удивляясь, что вместе так похоже и одновременно так по-разному смотрят на мир. А в мире, тем временем, становилось светло и щебетали первые птички.
Когда рейв закончился, Гоша пошел провожать Леру домой. Покружив между спящими пятиэтажками, они до утра стояли на подъездной площадке, перешептываясь и подолгу целуясь. Если бы кто-то посторонний мог подслушать, о чем они шептались, он бы ровным счетом ничего не понял. Фразочки из фильмов и песен, полуслова-полунамеки, – они на ходу придумывали птичий язык, который был понятен лишь им двоим.
Они болтали без умолку, удивляясь, что вместе так похоже и одновременно так по-разному смотрят на мир. А в мире, тем временем, становилось светло и щебетали первые птички.
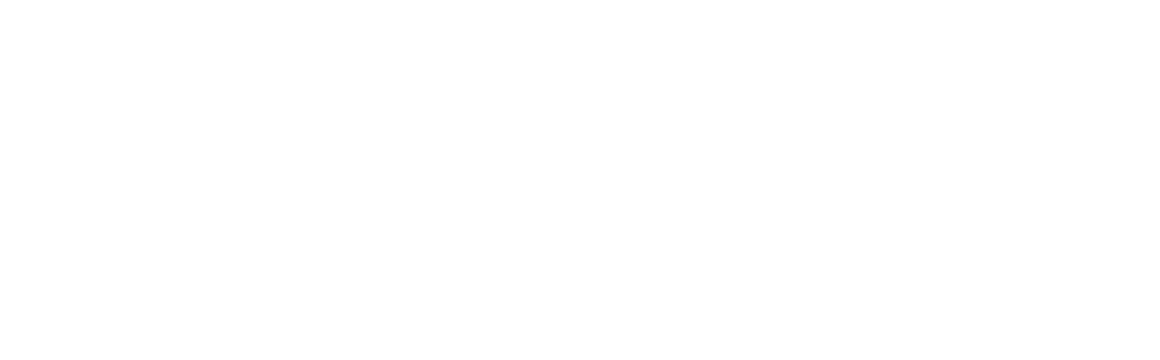
VI. "Where did you sleep last night"
Так прошли два совершенно счастливых для Гоши месяца. Он просыпался среди ночи полностью отдохнувшим и подолгу не мог сомкнуть глаз. Не мог мечтать, не мог думать ни о чем. Лежал и смотрел на потолок, пытаясь представить, каким будет завтра.
Рассматривая трещины в штукатурке, он прислушивался к новому дню: от утренних лучей медленно нагревался подоконник, шорох редких шагов отражался от залитых солнечной глазурью пятиэтажек. Где-то совсем рядом — рукой подать — для него, и ни для кого больше, в это время билось Лерино сердце. Оно было ближе, чем родное, дороже, чем свое собственное, теплее и ласковее, чем материнское. Он чувствовал к этому сердцу абсолютную, неподдающуюся лечению привязанность. Он покорился ему до последнего вздоха, до последней крупинки грязи под ногтями.
Рассматривая трещины в штукатурке, он прислушивался к новому дню: от утренних лучей медленно нагревался подоконник, шорох редких шагов отражался от залитых солнечной глазурью пятиэтажек. Где-то совсем рядом — рукой подать — для него, и ни для кого больше, в это время билось Лерино сердце. Оно было ближе, чем родное, дороже, чем свое собственное, теплее и ласковее, чем материнское. Он чувствовал к этому сердцу абсолютную, неподдающуюся лечению привязанность. Он покорился ему до последнего вздоха, до последней крупинки грязи под ногтями.
Раньше он писал песни на клочках бумаги и складывал их стопками в обувную коробку. Гоша любил перечитывать их, подбирал аккорды и напевал. После знакомства с Лерой он так ничего и не написал: только садился за стол, строки тут же размагничивались и не хотели клеиться в стихи. Внутренний диалог, который он любил вести наедине с собой, затих, и в сердце наступил полный штиль, настолько тихий и безмятежный, что впору было испугаться.
На одной из вечеринок в "Трансмиссии" Гоша по привычке пошел к пацанам, оставив Леру танцевать с подружкой. Парни вышли на улицу и шумной толпой пристроились у хоккейной коробки. Достали несколько пузырей водки, какую было закуску и соки. Разлили по пластиковым стаканчикам и бахнули по одной за здоровье. Потом вторую и третью, и еще по чуть-чуть. Из кустов выплыла гитара, вокруг Гоши расчистили поляну и, само собой, попросили поиграть. Отнекиваться было бессмысленно. Гоша кивнул Чижу:
— Будь другом, приведи Леру.
— Щас, Гош.
Разлили еще понемногу, и Гошу решительно никто не хотел отпускать. Чижа не было, и он заволновался. Бахнули еще, погорланили, и под предлогом отлить он вышел на пару минут из плотного компанейского кольца. Чижа встретил по пути, тот болтал с кем-то из знакомых.
— Где она? – вопросительно посмотрел Гоша.
— Да там, внутри. – Чиж смутился. Он хотел что-то сказать и протянул было руку, но Гоша уже вовсю прорывался через толпу.
— Будь другом, приведи Леру.
— Щас, Гош.
Разлили еще понемногу, и Гошу решительно никто не хотел отпускать. Чижа не было, и он заволновался. Бахнули еще, погорланили, и под предлогом отлить он вышел на пару минут из плотного компанейского кольца. Чижа встретил по пути, тот болтал с кем-то из знакомых.
— Где она? – вопросительно посмотрел Гоша.
— Да там, внутри. – Чиж смутился. Он хотел что-то сказать и протянул было руку, но Гоша уже вовсю прорывался через толпу.
~
Найти Леру оказалось непросто, он обошел вокруг зала — ее нигде не было. Забрался в самый центр — посмотреть, нет ли ее среди танцующих в кругу — и тут заметил пару, которая пристроилась на диванчике, недалеко от входа. Шахов тискал ее, запустив руки в разрез короткого платья. И она... в общем, она была не против.
Слезы навернулись на глаза. Сквозь мутную поволоку, Гоша, не имея ни малейшего представления, как отреагировать, с минуту наблюдал за этими двумя предательскими фигурками. Ноги налились тугим свинцом, и он буквально не мог сдвинуться с места. Когда опомнился, Леры уже не было: она растворилась в толпе вместе с Шаховым.
Еще через минуту Гоша вернулся к хоккейной коробке. Кот еле стоял на ногах:
— Гох, ты че какой мутный?
Сам не свой, не в силах оторвать взгляд от земли, Гоша попросил полного стакана, проглотил без запивки, взял гитару и запел:
Слезы навернулись на глаза. Сквозь мутную поволоку, Гоша, не имея ни малейшего представления, как отреагировать, с минуту наблюдал за этими двумя предательскими фигурками. Ноги налились тугим свинцом, и он буквально не мог сдвинуться с места. Когда опомнился, Леры уже не было: она растворилась в толпе вместе с Шаховым.
Еще через минуту Гоша вернулся к хоккейной коробке. Кот еле стоял на ногах:
— Гох, ты че какой мутный?
Сам не свой, не в силах оторвать взгляд от земли, Гоша попросил полного стакана, проглотил без запивки, взял гитару и запел:
My girl, my girl, don't lie to me
Tell me where did you sleep last night
In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine
I would shiver the whole night through
Tell me where did you sleep last night
In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine
I would shiver the whole night through
Остаток того вечера и ночь стерлись из его памяти навсегда.
VII. Отношения
Гоша не верил в отношения >>
Гоша не верил в отношения. Есть любовь, есть дружба, есть трах — а где отношения? Любовь обжигает изнутри, ослепляет, дружба греет и поддерживает, трах разряжает обойму, иногда с последствиями. А отношения — это что? Вроде как проводить время вместе, не понимая, чем именно вы занимаетесь, — любовью, трахом или дружеской болтовней? Или только скуку делите на двоих.
Ему хотелось забыть Лерку >>
Ему до смерти хотелось забыть Лерку, а лучше бросить. Но набирая номера старых подружек, он все думал: «А зачем?» — обнимая их, вздыхал: «Поскорее бы все это закончилось» — поскорее заканчивал и уходил.
Леру притягивало к нему >>
Гоша нравился всем, и это притягивало Леру к нему. Когда он не звонил по несколько дней подряд, в ней просыпалась ревность, и она, словно заведенная игрушка, бросалась вдогонку. Она обрушивала на него все свое обаяние, свою очаровательную хрупкость, умение сдаваться в нужный момент и манипулировать подчиняясь. Ее смущенная улыбка вмиг обезоруживала его, выбивая почву из-под ног.
Наигравшись, Лера исчезала >>
Наигравшись, Лера исчезала. Что-то в Гоше ее всегда отпугивало. Какой-то сложный и непроницаемый внутренний мир, который жил глубоко в его голове по своим законам. Этим внутренним миром она не могла управлять, и казалось, она ничего в нем не понимает.

А в это время Гоша >>
Гоша потерял аппетит и перестал выходить из дома. Перестал выходить из комнаты, перестал вставать с кровати, перестал разговаривать. Мама заметила перемену в нем, присела, погладила по голове, и он тут же все ей рассказал. Стало легче, но что можно было поделать?
VIII. Хата
Как-то вечером Кот зазвал Гошу на одну хату. Идти не хотелось, но уж очень нужно было отвлечься. Было какое-то неприятное чувство, но Гоша прогнал его: «Погляжу, что там. Не понравится — уйду».
О хате Салютика ходили слухи по всему Южному. А жил он в соседнем подъезде. Поднимаешься на второй этаж, и на лестничном пролете тебя с ног до головы обдает приторно-горьким запахом. Этот запах навсегда пропитал стены двухкомнатной утробы, в которой каждый день собирался разношерстный народ с окрестностей. Здесь варили, курили, любили, пили, дрались, е*лись, умирали и даже рождались. Кто-то становился тут постояльцем, кто-то оставался залетным прохожим, а кто-то находил второй дом.
О хате Салютика ходили слухи по всему Южному. А жил он в соседнем подъезде. Поднимаешься на второй этаж, и на лестничном пролете тебя с ног до головы обдает приторно-горьким запахом. Этот запах навсегда пропитал стены двухкомнатной утробы, в которой каждый день собирался разношерстный народ с окрестностей. Здесь варили, курили, любили, пили, дрались, е*лись, умирали и даже рождались. Кто-то становился тут постояльцем, кто-то оставался залетным прохожим, а кто-то находил второй дом.
— Бух-бух-бух
Гоша постучал в дверь, зашел. Дырявый лоснящийся половик слизал его из прихожей, проглотив в центр узенькой замызганной кухни, где кроме него, на табуретах и на полу расположилось еще четверо. В сигаретном дыму затерялись жидкие зеленые занавески, пожелтевшие бычки корчились в братской могиле на подоконнике, ведро с водой у стола было густо припорошено окурками. Кудрявый и рябой, с вечно выпученными, безумными глазами, Салютик что-то проворно доставал из пакета. Использованная вата, коричневые пузырьки, сигареты и минералка тихо стояли в стороне.
В комнате мать Салютика смотрела ТВ. Алкоголичке было плевать на то, что происходит вокруг, лишь бы не били. Еще одна комната была совсем пустая, за исключением рваных обоев и кровати. На голом матрасе, задрав голову, на ней лежала незнакомая Гоше телка. Кажется, спала.
--- - - - -
В комнате мать Салютика смотрела ТВ. Алкоголичке было плевать на то, что происходит вокруг, лишь бы не били. Еще одна комната была совсем пустая, за исключением рваных обоев и кровати. На голом матрасе, задрав голову, на ней лежала незнакомая Гоше телка. Кажется, спала.
--- - - - -
Кот подозвал его тихонько, кивнул на баян и говорит:
— Будешь?
— А что это?
— Гера. Давай с нами, мы уже оприходовались.
— Не, я не буду. Я лучше щас у Лысого плана возьму.
Гоша чувствовал, что рано или поздно Кот предложит ему уколоться, и заранее приготовил ответ типа: «Ты знаешь, это не для меня, я предпочитаю легкий кайф». Он прогнал этот ответ в голове, но вслух не произнес.
— Будешь?
— А что это?
— Гера. Давай с нами, мы уже оприходовались.
— Не, я не буду. Я лучше щас у Лысого плана возьму.
Гоша чувствовал, что рано или поздно Кот предложит ему уколоться, и заранее приготовил ответ типа: «Ты знаешь, это не для меня, я предпочитаю легкий кайф». Он прогнал этот ответ в голове, но вслух не произнес.
Его пугали рассказы о зависимости и ломках, а особенно укол в руку острой металлической иглой. И в то же время, было просто интересно. На ум пришла сцена из «Криминального чтива», где Траволта так картинно приходуется... Мысли путались в голове.

IX. В девственный локтевой
Шахов посмотрел на него безразлично.
— Если не будешь, тогда пиз*уй отсюда.
— Хуль ты рычишь на него? Не хочет — не надо. — заступился Кот. Его язык заплетался, отчего голос звучал, будто с мятой кассетной пленки. Он то и дело почесывал грудь и предплечье и подолгу, глубоко затягивался сигаретой. — Смотри, Гош. Ты последнее время сам не свой ходишь. Вот мы и решили тебя под... подлечить. Чтобы ты не депрессовал. Не понравится — твое дело.
— Ну давай, не ломайся, б*я. — оскалился Шахов.
— Не буду, че дое*ался до меня? — Гоша огрызнулся и вышел.
Уламывать не стали. С первого раза не надо наседать, это понятно. Первый отказ — он от страха: по ящику мозги полощут и прививают всякое дерьмо, вот люди и отказываются. Человеку надо попробовать, понять, что к чему, своими глазами увидеть, что я не смертелен. Потом, глядишь, и сам попросит.
— Если не будешь, тогда пиз*уй отсюда.
— Хуль ты рычишь на него? Не хочет — не надо. — заступился Кот. Его язык заплетался, отчего голос звучал, будто с мятой кассетной пленки. Он то и дело почесывал грудь и предплечье и подолгу, глубоко затягивался сигаретой. — Смотри, Гош. Ты последнее время сам не свой ходишь. Вот мы и решили тебя под... подлечить. Чтобы ты не депрессовал. Не понравится — твое дело.
— Ну давай, не ломайся, б*я. — оскалился Шахов.
— Не буду, че дое*ался до меня? — Гоша огрызнулся и вышел.
Уламывать не стали. С первого раза не надо наседать, это понятно. Первый отказ — он от страха: по ящику мозги полощут и прививают всякое дерьмо, вот люди и отказываются. Человеку надо попробовать, понять, что к чему, своими глазами увидеть, что я не смертелен. Потом, глядишь, и сам попросит.
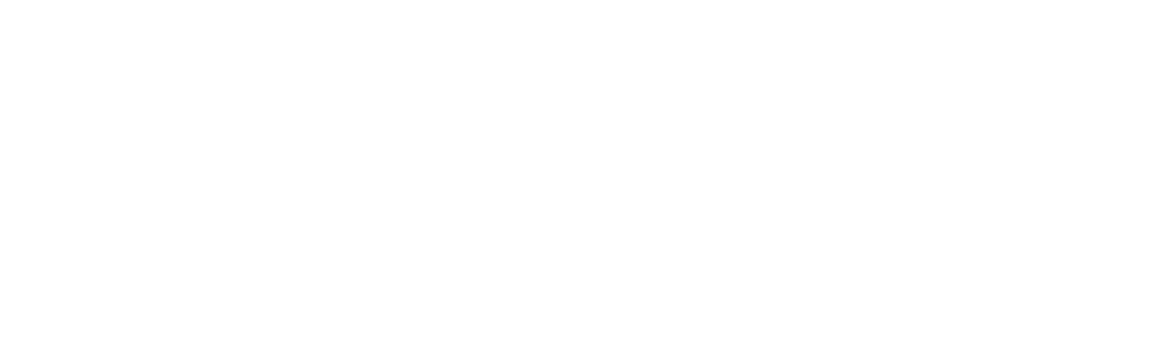
Показываться дома Гоше было не охота: отец с матерью разругались и неделю не разговаривали. Злились на него, что не ходил на подготовительные в институт, что отличник в прошлом, он получает диплом с одними тройками, что из гимназии его чуть не выкинули со скандалом за прогулы и драку у школьной подсобки. В общем много на него обиды накопилось, а заглаживать вину было нечем, да и некогда. И Лерка… Без нее хуже всего. Гитары, песни, телки, накурка, кассеты – ничего не помогало. Не выкинуть ее из головы. А где она?
Гоша зашел к Лысому, а тот, говорит, последнюю пятку еще вчера прикончил, для себя не осталось. Стало нестерпимо тошно. Лерки нет. Ну нет, так нет. Он вернулся к Салютику на хату, а там всех дико прет. Гоша посидел немного, и говорит:
— Давай.
— О, Гоха пришел! — Шаховская физиономия скривилась в неестественной, будто надрезанной ножом по лицу улыбке. Узкие черные булавки зрачков протыкали Гошу насквозь. — Давно бы, бл*дь.
— Эх, Гоша-Гоша! — Кот обернулся к нему и протянул руки, как будто хотел обнять. Когда Гоша протянул ладонь в ответ, тот крепко вцепился в нее и отдернулся от пола, едва не опрокинув Гошу на ведро с водой. Кот встал, чтобы сделать ему дозу.
Гоша зашел к Лысому, а тот, говорит, последнюю пятку еще вчера прикончил, для себя не осталось. Стало нестерпимо тошно. Лерки нет. Ну нет, так нет. Он вернулся к Салютику на хату, а там всех дико прет. Гоша посидел немного, и говорит:
— Давай.
— О, Гоха пришел! — Шаховская физиономия скривилась в неестественной, будто надрезанной ножом по лицу улыбке. Узкие черные булавки зрачков протыкали Гошу насквозь. — Давно бы, бл*дь.
— Эх, Гоша-Гоша! — Кот обернулся к нему и протянул руки, как будто хотел обнять. Когда Гоша протянул ладонь в ответ, тот крепко вцепился в нее и отдернулся от пола, едва не опрокинув Гошу на ведро с водой. Кот встал, чтобы сделать ему дозу.
С первого раза Игорь ничего особенного не почувствовал. Ставились в девственный локтевой сгиб, через секунду потемнело в глазах и — хлоп! — резкий толчок в груди, после которого по телу волнами разлилось тепло и слегка закололо под лопаткой. Почти сразу затошнило. Гоша словно провалился куда-то на несколько секунд, перед глазами пошла рябь. Соображать не получалось, сколько ни пытался взять себя в руки. В то же время стало как-то необъяснимо весело, а больше — пох*й на все. Потянуло блевать, но опустошение кишечника совсем не напрягало.
Это было счастье.
Простое, незамысловатое, но в то же время глубокое, без конца и края, только его счастье. Казалось, он держит его в ладонях, держит и уже никогда от себя не отпустит. Спокойный и уверенный голос изнутри говорил ему: «Все проблемы людей – полная х*йня и не стоят выеденного яйца. Все их мысли и стремления, все их войны и разрушения, все книжки, политики и религии не стоят и квадратного сантиметра этой комнаты, не стоят и грязного бычка на подоконнике».
Разумеется, это был мой голос.
Это было счастье.
Простое, незамысловатое, но в то же время глубокое, без конца и края, только его счастье. Казалось, он держит его в ладонях, держит и уже никогда от себя не отпустит. Спокойный и уверенный голос изнутри говорил ему: «Все проблемы людей – полная х*йня и не стоят выеденного яйца. Все их мысли и стремления, все их войны и разрушения, все книжки, политики и религии не стоят и квадратного сантиметра этой комнаты, не стоят и грязного бычка на подоконнике».
Разумеется, это был мой голос.
II часть
X. Гудки
Автомат с шумом проглатывает монету, и я не торопясь набираю номер. Телефонные гудки напоминают сердцебиение. Пока они раздаются, тянется чья-то жизнь, ровно, безостановочно, гладко. Легкие дышат, шумит прибой, колеса поездов неистово стучат, тикают часики, сердце бьется, будто барабан, играющий торжественный марш победы над смертью. И только на том конце снимают трубку, как чья-то судьба идет под откос, летит ко всем чертям, в тар-тарары, линия жизни обрывается, и мелодия затухает навсегда.
Иногда я задумываюсь, почему мы встретились с Гошей. Может, потому что он тоже обожал музыку? Еще в школе он играл в ансамбле, который назывался, конечно, «Вечная молодость» или что-то в этом роде. «ВМ» даже успели дать несколько концертов, но Гоша был настроен серьезнее остальных, и одетой в портьеру, пропахшей пылью школьной сцены ему было мало. Куда там, он хотел стать рок-н-ролльной звездой. Он знал, что я делал из музыкантов настоящих гениев. Он хотел спросить у меня, как стать великим. В его глазах горел тот чертов огонек, который до печенок нравился мне.
Иногда я задумываюсь, почему мы встретились с Гошей. Может, потому что он тоже обожал музыку? Еще в школе он играл в ансамбле, который назывался, конечно, «Вечная молодость» или что-то в этом роде. «ВМ» даже успели дать несколько концертов, но Гоша был настроен серьезнее остальных, и одетой в портьеру, пропахшей пылью школьной сцены ему было мало. Куда там, он хотел стать рок-н-ролльной звездой. Он знал, что я делал из музыкантов настоящих гениев. Он хотел спросить у меня, как стать великим. В его глазах горел тот чертов огонек, который до печенок нравился мне.
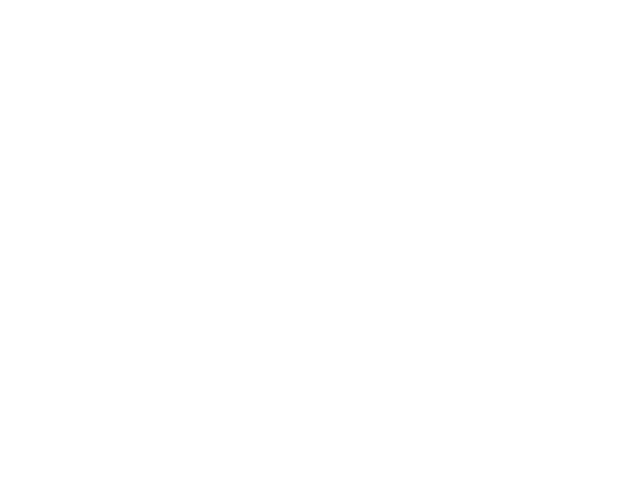
Я часто рассказывал ему о том, как в 20-е, в горячую послевоенную пору, в эпоху новорожденного джаза, все музыканты мира узнали обо мне. Став частью культуры, тогда я превратился в настоящую болезнь улиц. Без меня не обходился ни один джем-сейшн, без меня ни одна нота не слетала со смычка. Я был для них Иисусом. Я был для них свободой. Я был их голубой нотой, их черной волной, по доллару за дозу.
XI. Птица Чарли
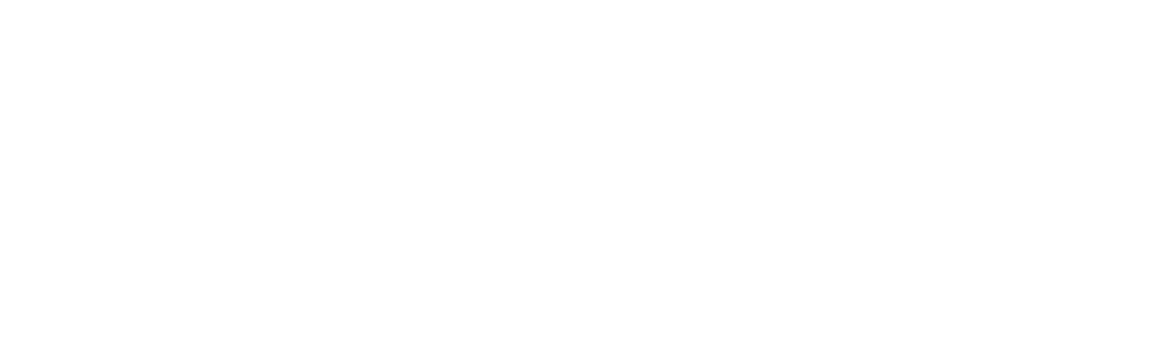
Положив Гошину голову к себе на колени, я рассказывал ему о том, как познакомился с Птицей – Чарли Паркером – в больнице, где после автокатастрофы ему кололи морфий для обезболивания.
— Едва ли не подросток, — горячился я, — маленький черный дрищ, ничего не смысливший в жизни, кроме игры на саксофоне, Чарли сразу понравился мне, а я ему. У нас завязалась крепкая дружба.
Он прятал ото всех свою боль, свое одиночество и слабость, показывая их только мне. Я чувствовал, каково это быть ниггером, в чьи руки вложен несравненный талант, но не иметь при этом уважения людей, быть унижаемым, бесправным и беззащитным. За пониманием и защитой он обращался ко мне. И я защищал, как мог. Я даровал ему одно из главных прав цивилизованного белого мира — право на саморазрушение.
Гоша повторял:
— Едва ли не подросток, — горячился я, — маленький черный дрищ, ничего не смысливший в жизни, кроме игры на саксофоне, Чарли сразу понравился мне, а я ему. У нас завязалась крепкая дружба.
Он прятал ото всех свою боль, свое одиночество и слабость, показывая их только мне. Я чувствовал, каково это быть ниггером, в чьи руки вложен несравненный талант, но не иметь при этом уважения людей, быть унижаемым, бесправным и беззащитным. За пониманием и защитой он обращался ко мне. И я защищал, как мог. Я даровал ему одно из главных прав цивилизованного белого мира — право на саморазрушение.
Гоша повторял:
— На саморазрушение.
— Птица Чарли не жалел себя и торопился ко мне с изрядным рвением. В чем Птица и был по-настоящему прилежен, так это в отношении меня. Лежа на руках у своей покровительницы, баронессы де Кеннигсвартер, дочки миллиардера Ротшильда, он очень уж быстро загнулся, не успев прийти в себя. Но Чарли был во всем такой — он торопился, жадно глотая от каждого сосца на щедром вымени жизни. Особенно щедром на трагедии и подлянки.
Знаешь, почему Билли Холидей так часто носила перчатки?
Знаешь, почему Билли Холидей так часто носила перчатки?
— Почему?
— Она прятала ото всех свою неизмеримую любовь ко мне. Я проникал туда, куда не каждый парень мог проникнуть.
XII. Прошедшее время
Когда мы играли с Джоном Колтрейном, это я вырывался протяжным хрипом из его тенор-саксофона. "My favorite things"… ты только послушай! Это я купал его в переливчатых и глубоких волнах, я — чертов парус, который вел его сквозь разъяренную пену жизни. Подо мной он импровизировал как никто другой.
— Как нкт дргой.
— Из-за меня его выгоняли с работы, из-за меня не брали играть в биг-бэнды, да и черт бы с ними. Свои-то всегда знали, всегда принимали нас. Меня и его. Нам было хорошо, нам было очень хорошо.
Я долго держал эту светлую душу, но однажды он ушел. Знаешь, променял меня на какую-то сраную церковь гребаного вероисповедания. Я был в ярости, я схватил его за глотку и держал-держал-держал. Я залез в каждую клетку, я заставил его умирать, выблевывая из себя старую жизнь и исходясь поносом на жизнь новую.
Я долго держал эту светлую душу, но однажды он ушел. Знаешь, променял меня на какую-то сраную церковь гребаного вероисповедания. Я был в ярости, я схватил его за глотку и держал-держал-держал. Я залез в каждую клетку, я заставил его умирать, выблевывая из себя старую жизнь и исходясь поносом на жизнь новую.

И все-таки он слез. Он оказался силен и достаточно упрям — исколотый черный бык, перехитривший матадора. Разумеется, он поплатился. Я частенько квартировал в его печени, а когда ушел, что-то иное проникло туда, что-то чужое — полная противоположность мне, ведь я везде свой — проникло и заставило Джонни страдать. Его величество рак. И поделом ему, ведь он твердил там и сям, будто это не я сделал его тем, кто он есть. Вернее, тем, кем он был…
Все они когда-то были. Для меня все они в прошедшем времени.
Все они когда-то были. Для меня все они в прошедшем времени.
— В пршдшмврмини.
— Все эти ребятки сами искали меня, интересовались мной, и не только из досужего любопытства. Они шли ко мне с распростертыми объятиями, раз за разом. И нечего скулить.
— Нчг склить.
— Вообще-то я вне закона. Но ты понимаешь, меня нельзя запретить, — я все равно появлюсь там, где меня не ждут.
Я брожу по ночным кошмарам бедных кварталов, по наглухо задрапированным притонам для избранных. Меня носят во внутренних карманах, меня берегут под языком, а если что, глотают, чтобы не попасться. Меня курят, меня нюхают, меня впрыскивают в вены — свежие или закупоренные, податливые, как хлебный мякиш, или черствые, как высохшие корни дерева. Мне посвящают песни, черт возьми.
Я брожу по ночным кошмарам бедных кварталов, по наглухо задрапированным притонам для избранных. Меня носят во внутренних карманах, меня берегут под языком, а если что, глотают, чтобы не попасться. Меня курят, меня нюхают, меня впрыскивают в вены — свежие или закупоренные, податливые, как хлебный мякиш, или черствые, как высохшие корни дерева. Мне посвящают песни, черт возьми.
— Псвщтпесн.
— Это я пахну, как подросток.
— Какпадрстк.
— Я был единственным другом бедняжки Курта. Да, в середине 80-х я загостился в Сиэттле. Знаете, у него болел желудок, а я помогал ему в трудные минуты. Когда ему было одиноко, я был рядом. Ему было хорошо со мной. Иногда я успокаивал его. А иногда приводил в ярость, заставлял крушить гитары, дрочить в телекамеры, купаться в собственном бреду. Я дрожал на гитарных струнах, бурлил, как в раскаленной столовой ложке, в его слетевшей с катушек башке.
Всего и не упомнишь.
Я популярнее, чем любой из них. Чем все они вместе взятые. Еще многие, многие-многие-многие-многие будут любить меня.
Всего и не упомнишь.
Я популярнее, чем любой из них. Чем все они вместе взятые. Еще многие, многие-многие-многие-многие будут любить меня.
XIII. У Салютика
Гоша очнулся на кухонном полу. Его то отпускала, то снова накрывала горячая волна прихода. Кот цедил сигарету, Салютик с багровым лицом и вытаращенными глазами что-то варганил на плите. Попутно он разговаривал с незнакомым Гоше, прежде молчавшим молодым парнем. Новоиспеченный спрашивал:
— Ну и че, раскумарился?
— Да мне в долг дал типок один с Парковой. Сделать ему кой-че пришлось. Так я только от него выхожу, прямо там в подъезде расчехляюсь, и кто-то заваливается. Я на измену, думаю – менты, дал деру, баян так и оставил на подоконнике. Оказалось, бычье какое-то.
— Гош, ты как там? — спросил Кот.
— Нормально вроде. Только вырвало меня.
— Ну это ничего. Под кайфом и поблевать не обломно. Ты знаешь, кайф — его понять надо. Вот распробуешь, тогда начнешь врубаться. Пойдем-ка лучше погуляем.
— Пошли.
Гоша быстро стал у Салютика своим. Он нес в эту хату все: деньги, шмотки, с трудом добытые чеки, а вместе с ними все свои проблемы и заботы. Дома его ждал остывший ужин, допоздна засидевшаяся мать и бесконечные расспросы.
— Ну и че, раскумарился?
— Да мне в долг дал типок один с Парковой. Сделать ему кой-че пришлось. Так я только от него выхожу, прямо там в подъезде расчехляюсь, и кто-то заваливается. Я на измену, думаю – менты, дал деру, баян так и оставил на подоконнике. Оказалось, бычье какое-то.
— Гош, ты как там? — спросил Кот.
— Нормально вроде. Только вырвало меня.
— Ну это ничего. Под кайфом и поблевать не обломно. Ты знаешь, кайф — его понять надо. Вот распробуешь, тогда начнешь врубаться. Пойдем-ка лучше погуляем.
— Пошли.
Гоша быстро стал у Салютика своим. Он нес в эту хату все: деньги, шмотки, с трудом добытые чеки, а вместе с ними все свои проблемы и заботы. Дома его ждал остывший ужин, допоздна засидевшаяся мать и бесконечные расспросы.
— «Где был?» — «С кем?» — «Чем занимались?» — «Посмотри мне в глаза» — «А ну дыхни!»
Ухмыльнувшись, Гоша легко проходил незатейливый досмотр, закрывал дверь в комнату, на карандаше отматывал кассету, включал магнитофон и ложился спать.
Лера спрашивала:
— Игорь, зачем ты это делаешь?
— Мне нравятся ощущения.
— Ты не боишься подсесть? Это ведь страшная зависимость.
— Чтобы появилась зависимость, надо колоться несколько месяцев подряд. Если я захочу — брошу.
— А захочешь?
— Игорь, зачем ты это делаешь?
— Мне нравятся ощущения.
— Ты не боишься подсесть? Это ведь страшная зависимость.
— Чтобы появилась зависимость, надо колоться несколько месяцев подряд. Если я захочу — брошу.
— А захочешь?
Гоша молчал.
— Обещай, что захочешь.
— Обещаю.
— Когда?
— Скоро.
— Обещай, что захочешь.
— Обещаю.
— Когда?
— Скоро.
XIV. Университеты
Родители долго ни о чем не догадывались. Замечая бурные перемены в сыне, они не хотели верить, что Гоша сидит на игле. Надеялись, что институт исправит положение и отвлечет его от плохой компании. К тому же, Гошу взяли на бесплатный. Он умудридся с троечным аттестатом сдать экзамены и набрать проходной балл на теплоэнергетический факультет.
Вот только учиться не хотел. В институте все казалось чужим, и никому до него не было дела: хочешь — учись, не хочешь — гуляй. Некому было подтолкнуть его, помочь, подсказать, подставить плечо. Люди вокруг не внушали ни капли симпатии: убогие ботаны, скучные и тупые спортсмены, школьные задрочки и деланые умники, прыщавые тихони и расфуфыренные мажорики, готовые после института занять теплое место у кормушки, под боком у своих пап и мам. С такими и парой слов не перекинешься.
По окончании гимназии распалась «Вечная молодость». Играть стало не с кем и, в общем, некогда. Что Гоша музыкант, на его факультете не знал никто. Все общались небольшими кучками, обсуждая малоинтересные для Гоши темы: преподы и семинары, сессии и конспекты, а еще кто как одет, кто с кем встречается, кто кого еб*т.
Карманные деньги на институт быстро таяли, и уже в первом семестре Гоша стал понемногу обрабатывать сокурсников. У парня с потока в перерыве пропал кошелек, потом казначея группы в день стипенидии обули неизвестные ребята в тупике за общагой.
Со временем одногруппники стали смотреть на Гошу с опаской. Бледный, весь в черном, в солнцезащитных очках, даже когда пасмурно, он то объявлялся среди дня, то исчезал на неделю. Почти ни с кем не общался, кроме двоих-троих таких же странных ребят.
Мама взяла за привычку рыться в его одежде и вещах. Однажды нашла под кроватью номерки от гардероба: несколько штук, плюс кусок оргстекла и машинку для выжигания. Номерки точь-в-точь настоящие, не отличить. — «Так вот откуда все его новые вещи, которые он неизвестно на что покупает, и деньги, о которых ничего не хочет рассказывать».
Когда-то давно гимназическая классная сказала ему:
«Ты или станешь большим человеком — или опустишься на самое дно».
Гоша верил, что до дна еще далеко.
«Ты или станешь большим человеком — или опустишься на самое дно».
Гоша верил, что до дна еще далеко.
Ворованные пальто и куртки Гоша быстро сбывал с рук у себя на районе или через знакомых барыг в городе. Вырученных денег на ширку хватало. Впрочем, не всегда.
Я был его поиском. Все они что-то ищут со мной. Отправляются в далекие путешествия, сами себе выбирая путь. Где они окажутся и что увидят, — зависит от них. Я лишь толкаю их вперед по лезвию судьбы, острому, как мамкин нюх, и короткому, как приход бывалого.
XV. Глюки
Экхху! Кхкм.
Со временем Гоше переставало хватать привычной дозы, и он повышал кубатуру. Организм быстро истощался, а мозг с трудом переваривал такое количество кайфа.
Однажды вечером, после вмазки он вышел из подъезда покурить на свежем воздухе. Стоял один, ловил жидкие ошметки прихода и глядел в темноту двора. На углу дома фонарь выхватывал из тьмы телефонную будку. Из живых существ — парень в кабинке и комарье, бьющееся за место под фонарным плафоном.
Со временем Гоше переставало хватать привычной дозы, и он повышал кубатуру. Организм быстро истощался, а мозг с трудом переваривал такое количество кайфа.
Однажды вечером, после вмазки он вышел из подъезда покурить на свежем воздухе. Стоял один, ловил жидкие ошметки прихода и глядел в темноту двора. На углу дома фонарь выхватывал из тьмы телефонную будку. Из живых существ — парень в кабинке и комарье, бьющееся за место под фонарным плафоном.
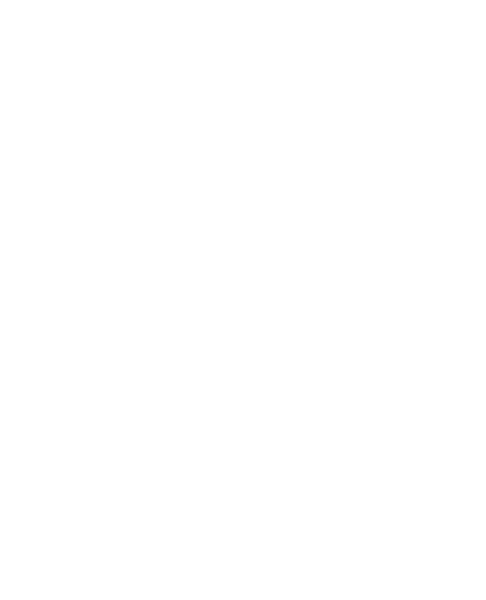
Парень держал трубку одной рукой и негромко разговаривал. Он кинул беглый взгляд на Гошу, а когда отвернулся, телефонный провод змеей поднялся в воздух и не торопясь начал обвивать его шею и руки. Затем перехватил грудь, да так, что было слышно треск ломающихся ребер. Парень не замечал ничего, он продолжал говорить и будто совсем не чувствовал боли.
Бедняга посинел, тело опухло, раздалось в размерах, кровь густыми струями сочилась на пол будки и залила его по щиколотки. Гоша хотел заорать, но не мог: язык онемел, от страха скрутило живот. Еле дыша он сполз по стене. Когда из подъезда вышел Кот, двор обдало тусклым электрическим светом, и его отпустило.
Бедняга посинел, тело опухло, раздалось в размерах, кровь густыми струями сочилась на пол будки и залила его по щиколотки. Гоша хотел заорать, но не мог: язык онемел, от страха скрутило живот. Еле дыша он сполз по стене. Когда из подъезда вышел Кот, двор обдало тусклым электрическим светом, и его отпустило.
— Гох, ты че какой мутный?
— Кот, мне пи*дец.
— Кот, мне пи*дец.
Он обернулся: будка стояла как ни в чем ни бывало. Ночь, фонарь и телефон. Зашагав по тропинке, парень растворился в густой темноте.
Через неделю у Гоши закончился припасенный в тайничке порошок. С утра он поставился последними кубами, понимая, что надолго этого не хватит. Вечером решил, что во сне перекумарится, а наутро что-нибудь придумает. Он остался в этот вечер дома, и послонявшись немного между кухней и комнатой, лег спать. Рядом в кровати сопел младший брат. Сил после утомительной недели совсем не осталось, но глаза не хотели закрываться и спать было невмоготу.
Через неделю у Гоши закончился припасенный в тайничке порошок. С утра он поставился последними кубами, понимая, что надолго этого не хватит. Вечером решил, что во сне перекумарится, а наутро что-нибудь придумает. Он остался в этот вечер дома, и послонявшись немного между кухней и комнатой, лег спать. Рядом в кровати сопел младший брат. Сил после утомительной недели совсем не осталось, но глаза не хотели закрываться и спать было невмоготу.
Было так тихо, что он слышал соседский телек за стеной.
Когда рассеялись аплодисменты позднего ток-шоу, Гошу отвлек негромкий, нарастающий гул, за которым последовал треск, как будто от стены хлопьями отделялись куски штукатурки и обоев. Стена, закрытая ковром, начала деформироваться, и стала вдруг мягкой. Мелкой и быстрой рябью по ней пошли разводы, как в блюдце с водой. Плотный ковровый ворс лопнул, и сквозь дыру наружу высунулся огромный металлический хобот. Гибкий и подвижный, он был увешан компьютерными мониторами, по которым бегала заставка Windows 98.
Совершенно бесшумно хобот начал засасывать все вокруг. В отверстие на его кончике стали заползать ковер и одеяло, занавески и простыня. Зазвенело оконное стекло, затрещала по швам старая кровать. Еще немного, и засосало бы младшего братишку, а потом и его самого.
Когда рассеялись аплодисменты позднего ток-шоу, Гошу отвлек негромкий, нарастающий гул, за которым последовал треск, как будто от стены хлопьями отделялись куски штукатурки и обоев. Стена, закрытая ковром, начала деформироваться, и стала вдруг мягкой. Мелкой и быстрой рябью по ней пошли разводы, как в блюдце с водой. Плотный ковровый ворс лопнул, и сквозь дыру наружу высунулся огромный металлический хобот. Гибкий и подвижный, он был увешан компьютерными мониторами, по которым бегала заставка Windows 98.
Совершенно бесшумно хобот начал засасывать все вокруг. В отверстие на его кончике стали заползать ковер и одеяло, занавески и простыня. Зазвенело оконное стекло, затрещала по швам старая кровать. Еще немного, и засосало бы младшего братишку, а потом и его самого.
Гоша с криком схватил брата:
— Подержи меня за руку.
Спросонья брат запищал не то от страха, не то от удивления.
— Игорь, чего ты?
— Держи, только не отпускай!
— Ииигорь... что случилось?
Крепко сжав руку брата, он прыгнул к выключателю. Как только в комнате щелкнул свет, глюк рассеялся. Кровать, ковер, стена, окно – все снова было на своих местах. На шум прибежала мама.
— Мне страшно, мама...
— Что с тобой, сынок?
— Все, я завязываю. Буду лечиться.
— Подержи меня за руку.
Спросонья брат запищал не то от страха, не то от удивления.
— Игорь, чего ты?
— Держи, только не отпускай!
— Ииигорь... что случилось?
Крепко сжав руку брата, он прыгнул к выключателю. Как только в комнате щелкнул свет, глюк рассеялся. Кровать, ковер, стена, окно – все снова было на своих местах. На шум прибежала мама.
— Мне страшно, мама...
— Что с тобой, сынок?
— Все, я завязываю. Буду лечиться.
XVI. Двушка
Гоша лег в больницу по собственному желанию. Так делают многие, от страха. Когда нет денег снять ломку или когда доза доходит до предела; чувствуют, что дальше дороги нет, надо на время сбавить обороты и полежать на ремиссии. На вахте второго отделения наркодиспансера хорошенько обшмонали. Не залезли разве что в задницу, хотя и такое здесь не редкость. Оно и понятно, абстяжные нарки могут ширево не только в задницу запрятать, лишь бы не болеть. Положили на вязки в палату интенсивной терапии, в общую. Главврач, психиатр-нарколог высшей категории, Лев Юрьевич принял Гошу, как и всех остальных, с юмором: «Даст бог, еще увидимся». За год в «двушке» лежали сотни таких, как Гоша. Кто попадал сюда раз, имел обыкновение возвращаться. Гошу веревками привязали к кровати — «купировать абстинентный синдром». Сначала он дергался и ох*евал: отказывался ссать под себя и безвылазно торчать в вонючей палате. Изодрав руки в кровь, смирился и принял общие для всех правила. Гошу обкалывали лекарствами, делали капельницы и давали снотворное, но от ломки это почти не помогало. Тело разрывалось, разваливалось на гниющие куски. Тысячи крыс рвали на части каждый миллиметр кожи. Каждая клетка захлебывалась от боли, плевалась болью, дышала болью. Хуже всего – что некуда деться. Оставалось только выворачиваться наизнанку и стонать, без памяти и без сил. Время между забытьем и очередным приступом тянулось бесконечно. Приходя в себя, Гоша вспоминал Леру: где она сейчас, когда ему так? В соседнем отделении лежали аборигены-алкаши. В основном, мужики, от тридцати и до шестидесяти, все помятые, еле живые, рожи — вареные капустные листы. По большей части они гостили здесь регулярно и знали по имени-отчеству весь персонал. На втором этаже нарки. Беспокойные, изворотливые и злые. Чаще молодые, взгляд прожжённый — два тлеющих бычка, — реже матерые, с потухшими глазами. Трудно сказать, сколько времени прошло — дня два, а может быть, четыре. Гоша почувствовал себя лучше. Руки и ноги затекли до омертвения, от ремней кожа потемнела и покрылась ссадинами. Силы понемногу возвращались. Хотелось крепкого чая, жутко хотелось курить, а еще — выйти на улицу, вдохнуть свежего осеннего воздуха или хотя бы посидеть в коридоре. Он представлял себе запах прелой листвы и мокрых от дождя тротуаров. Скоро зима, 1998-й, который, по всей видимости, будет для него тяжелым.
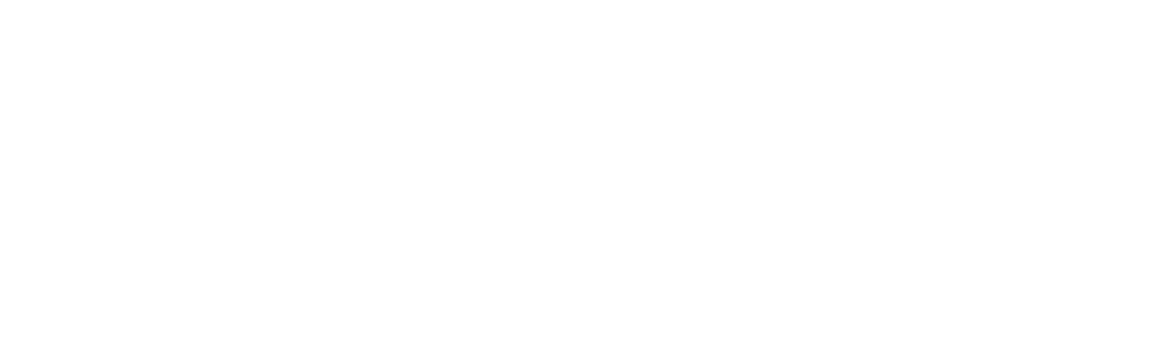
XVII. Ну, бывает
Когда, по просьбе мамы, из общей палаты его перевели в трехместную, стало почти хорошо. Тяга не покидала ни на минуту, но Гоша старался на ней не заморачиваться. У него было много времени подумать о другом. Например, раньше он никогда не соглашался, когда его называли наркоманом. А теперь, выходит, он — настоящий нарк, раз лежит в больнице для нарков. Этот статус ничего не прибавлял к его незавидному положению, и в то же время, все становилось на свои места — все, что творилось в последнее время в его жизни.
Лежали вдвоем. У соседа все ноги были в рубцах. Отекли так, что еле двигался и мазал их чем-то постоянно. На вопрос, что с ним, сосед показал Гоше пробитый пах — огромную дыру, в которую делал инъекции. Вены на руках и ногах у него давно сгорели.
— Пробивал здоровенным донорским шприцом . Еб*лся часа три, кое-как пробил. Потом кровища хлестала, пизд*ц.
— А че загноилось-то?
— Да не помню уже. На хате ставился юзаным шприцом, и то ли грязь попала, то ли вену задул. Начался тромбоз. Хорошо, что не ампутировали.
Как-то раз Гоша наведался в общую палату и узнал, что чувак, лежавший в углу у окна, протянул ноги. Здоровый бык, два с лишним метра ростом, он спал беспробудно три дня и две ночи. Всей больницей гадали: встанет — не встанет. На третью ночь загнулся. Наверное, устал бороться.
Ну, бывает.
Cпустился позвонить маме, чтоб привезла сигареты, тапки и носки на смену, а рука сама набрала на диске номер барыги.
— Да, кто это?
— Даров. Это Гоша.
— А, привет. Че-то ты пропал, ни слухом, ни духом.
— Я в «двушке». Четвертый день на отходосах.
Голос в трубке перебил:
— Вчера Шахова застрелили...
— Как?
— На квартирной краже при попытке к бегству. Залез в хату, а соседи копов вызвали. Он дверь открыл и на мента бросился, тот успел табельник достать и пальнул ему в живот. Скончался Серега по дороге в больницу на скорой.
Ну, бывает.
Гоша молчал в ответ.
— Тебе чего?
— Привези чего-нибудь курнуть. Невмоготу уже.
— Вечером заеду.
Лежали вдвоем. У соседа все ноги были в рубцах. Отекли так, что еле двигался и мазал их чем-то постоянно. На вопрос, что с ним, сосед показал Гоше пробитый пах — огромную дыру, в которую делал инъекции. Вены на руках и ногах у него давно сгорели.
— Пробивал здоровенным донорским шприцом . Еб*лся часа три, кое-как пробил. Потом кровища хлестала, пизд*ц.
— А че загноилось-то?
— Да не помню уже. На хате ставился юзаным шприцом, и то ли грязь попала, то ли вену задул. Начался тромбоз. Хорошо, что не ампутировали.
Как-то раз Гоша наведался в общую палату и узнал, что чувак, лежавший в углу у окна, протянул ноги. Здоровый бык, два с лишним метра ростом, он спал беспробудно три дня и две ночи. Всей больницей гадали: встанет — не встанет. На третью ночь загнулся. Наверное, устал бороться.
Ну, бывает.
Cпустился позвонить маме, чтоб привезла сигареты, тапки и носки на смену, а рука сама набрала на диске номер барыги.
— Да, кто это?
— Даров. Это Гоша.
— А, привет. Че-то ты пропал, ни слухом, ни духом.
— Я в «двушке». Четвертый день на отходосах.
Голос в трубке перебил:
— Вчера Шахова застрелили...
— Как?
— На квартирной краже при попытке к бегству. Залез в хату, а соседи копов вызвали. Он дверь открыл и на мента бросился, тот успел табельник достать и пальнул ему в живот. Скончался Серега по дороге в больницу на скорой.
Ну, бывает.
Гоша молчал в ответ.
— Тебе чего?
— Привези чего-нибудь курнуть. Невмоготу уже.
— Вечером заеду.
XVIII. Перчатки
Пакет с травой подняли на второй этаж по веревочке за двадцать минут до обхода в обмен на деньги, которые мама привезла с тапочками и сигаретами. Раскурили после, когда оба этажа затихли. Бошки тягу не сбивали, зато помогали отвлечься от дурных мыслей. Пробило на жрачку — проглотили махом все заготовленные фрукты, печенье и макароны быстрого приготовления. Поднялся ржач. На шум заглянул дежурный санитар, пришлось и ему немного отсыпать.
Вечерами Гоша лежал и думал ни о чем. Мысли плыли и плыли, навязчивые, липкие, угрюмые и холодные. Вспомнил, как год назад повел братишку купаться с друзьями на карьеры. Тогда еще обрезал пальцы на кожаных перчатках, выпотрошил подкладку и сделал аккуратные дырочки для костяшек. Вид у них был впечатляющий. Пока рассматривал их на берегу, брательник завопил:
— Спасите, тону! — когда Гоша обернулся, брат неуклюже бил руками по воде и беззвучно хлюпал ртом.
Поначалу не поверил: как можно утонуть в такой луже? Потом вспомнил, что брат этим летом только научился плавать. Видать, растерялся посреди карьера и от испуга, правда, мог захлебнуться.
Отбросив в сторону геройские перчатки, Гоша нырнул в воду и, подхватив брата под мышки, за два гребка добрался до берега. Все произошло само собой, быстро и легко, только одна из перчаток потерялась — наверное, упала в длинную осоку у захода. Но искать ее Гоша не стал: брату хотелось поскорее уйти от воды.
Вечерами Гоша лежал и думал ни о чем. Мысли плыли и плыли, навязчивые, липкие, угрюмые и холодные. Вспомнил, как год назад повел братишку купаться с друзьями на карьеры. Тогда еще обрезал пальцы на кожаных перчатках, выпотрошил подкладку и сделал аккуратные дырочки для костяшек. Вид у них был впечатляющий. Пока рассматривал их на берегу, брательник завопил:
— Спасите, тону! — когда Гоша обернулся, брат неуклюже бил руками по воде и беззвучно хлюпал ртом.
Поначалу не поверил: как можно утонуть в такой луже? Потом вспомнил, что брат этим летом только научился плавать. Видать, растерялся посреди карьера и от испуга, правда, мог захлебнуться.
Отбросив в сторону геройские перчатки, Гоша нырнул в воду и, подхватив брата под мышки, за два гребка добрался до берега. Все произошло само собой, быстро и легко, только одна из перчаток потерялась — наверное, упала в длинную осоку у захода. Но искать ее Гоша не стал: брату хотелось поскорее уйти от воды.

XIX. Проводы
Выйдя из «двушки», Гоша первым делом позвонил Коту. Накопилось немало долгов. Его уже искали и не раз наведывались домой, так что надо было подсуетиться и все поскорее раздать.

Гошина мама тоже не теряла времени: она пошла напрямую к районному военкому и договорилась о поступлении в ряды военнослажущих нового призывника. С самим призывником обещала дело уладить. Военком, неравнодушный к воспитанию молодежи и хорошему коньяку, был категорически «за».
На проводы Гоша собрал друзей: одноклассники, с которыми мало-мальски поддерживал связь; их подружки, что повзрослели и стали аппетитнее с тех пор, как он покинул родную школу; ребята с района, с кем когда-то пьянствовал по квартирам и подъездам под гитару и водку из пластиковых стаканов.
На проводы Гоша собрал друзей: одноклассники, с которыми мало-мальски поддерживал связь; их подружки, что повзрослели и стали аппетитнее с тех пор, как он покинул родную школу; ребята с района, с кем когда-то пьянствовал по квартирам и подъездам под гитару и водку из пластиковых стаканов.
Друзьям из торчковой компании места, само собой, не было. Вот только Кот хотел зайти, попрощаться. Гоша договорился с мамой, что он ненадолго заглянет и уйдет.
Мама ненавидела его, люто. «Он тебя на иглу посадил. Он во всем этом виноват, ему скажи спасибо». Но проводы есть проводы, с прошлой жизнью покончено. Все же они дружили, и теперь можно поставить в их общении жирную точку. Мама махнула рукой: «Пусть приходит, козёл».
Гости собрались в зале за столом, веселье и спиртное полились рекой. Кто-то сломал табуретку, Гошин друг Димка, художник-неудачник, окосев, развлекал толпу невпопадными пьяными шуточками. Зашел Кот, от стопки отказался, сел поодаль, ближе к коридору, как бы не желая вникать в общий гомон. Потом все вышли покурить и разбрелись кто-куда: кто в подъезд, кто на кухню к тете Тамаре, ну а Гоша зашел в ванную. Немного погодя и Кот туда же, типа помыть руки. Под шумок в ванной задвинулась щеколда.
Через пару минут мама спохватилась: Гоша куда-то пропал. Забарабанила в дверь, стала кричать:
— А ну сейчас же выходите… Игорь, выходи, я сказала!.. Открой дверь!
Когда на крик подбежали парни, дверь резко открылась, и Гоша оттолкнул мать, давая Коту проскочить. Уворачиваясь от отчаянных шлепков и расталкивая остальных, тот прошмыгнул из ванной сразу в подъезд. А Гошу скрутили и положили мордой вниз.
— Сосать. — по-армейски командовал уже отслуживший Юра, заламывая Гоше руки.
— Иди н... на х*й.—от обломанного прихода Гоша еле ворочал языком, и сил выбраться у него не было. Пришлось лежать, а когда Юра отпустил, он молча пришел в себя, надел куртку и ушел. Лера за ним. Гости разлили остатки спиртного, неудобно помолчали и разбрелись. В маленькой двухкомнатной квартирке на ночь застыл ужас.
Мама ненавидела его, люто. «Он тебя на иглу посадил. Он во всем этом виноват, ему скажи спасибо». Но проводы есть проводы, с прошлой жизнью покончено. Все же они дружили, и теперь можно поставить в их общении жирную точку. Мама махнула рукой: «Пусть приходит, козёл».
Гости собрались в зале за столом, веселье и спиртное полились рекой. Кто-то сломал табуретку, Гошин друг Димка, художник-неудачник, окосев, развлекал толпу невпопадными пьяными шуточками. Зашел Кот, от стопки отказался, сел поодаль, ближе к коридору, как бы не желая вникать в общий гомон. Потом все вышли покурить и разбрелись кто-куда: кто в подъезд, кто на кухню к тете Тамаре, ну а Гоша зашел в ванную. Немного погодя и Кот туда же, типа помыть руки. Под шумок в ванной задвинулась щеколда.
Через пару минут мама спохватилась: Гоша куда-то пропал. Забарабанила в дверь, стала кричать:
— А ну сейчас же выходите… Игорь, выходи, я сказала!.. Открой дверь!
Когда на крик подбежали парни, дверь резко открылась, и Гоша оттолкнул мать, давая Коту проскочить. Уворачиваясь от отчаянных шлепков и расталкивая остальных, тот прошмыгнул из ванной сразу в подъезд. А Гошу скрутили и положили мордой вниз.
— Сосать. — по-армейски командовал уже отслуживший Юра, заламывая Гоше руки.
— Иди н... на х*й.—от обломанного прихода Гоша еле ворочал языком, и сил выбраться у него не было. Пришлось лежать, а когда Юра отпустил, он молча пришел в себя, надел куртку и ушел. Лера за ним. Гости разлили остатки спиртного, неудобно помолчали и разбрелись. В маленькой двухкомнатной квартирке на ночь застыл ужас.
За пару дней, остававшихся до отъезда, Гоша оправился. После проводов Лера сграбастала его к себе — жалеть и заботиться перед долгой разлукой. На следующий день, когда она уехала в техникум, а ее папа и мама ушли на работу, Гоша набрал горячую ванную и лег отмокать, запуская в воздух кольца дыма. Он чувствовал себя виноватым, в первую очередь, перед своей матерью, и подумывал о том, чтобы и вправду завязать. Послать все куда подальше, уехать и через два года вернуться другим человеком.
— Сделаю это, — твердил он. — ради мамы.
Когда поезд отправлялся, мама плакала, Гоша нет. Армия не пугала его, тем более, что уезжал он недалеко, километров на четыреста от дома. Он стоял, опустив нос, и потупив взгляд в трещину на асфальте, из которой бился наружу бледно-зеленый пучок травы; ему было тошно и тоскливо. Лера не приехала.
— Сделаю это, — твердил он. — ради мамы.
Когда поезд отправлялся, мама плакала, Гоша нет. Армия не пугала его, тем более, что уезжал он недалеко, километров на четыреста от дома. Он стоял, опустив нос, и потупив взгляд в трещину на асфальте, из которой бился наружу бледно-зеленый пучок травы; ему было тошно и тоскливо. Лера не приехала.
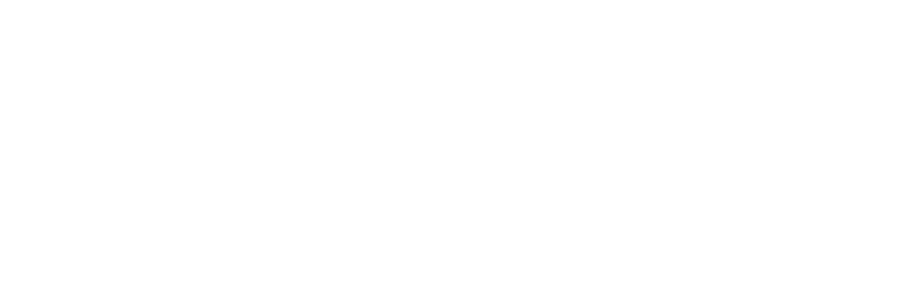
XX. Гудбай, 90-е!
Два года пролетели махом, как пятьдесят грамм небадяженного спирта. Когда он вернулся, стояли декабрьские морозы. В черном берете, с малиновыми от холода ушами, с белоснежными самодельными аксельбантами на дутом сером камуфляже, подтянутый, туго обнятый армейским ремнем со звездой, он позвонил в дверь квартиры.
— Сынок!.. — мать прижалась к нему, не в силах держать слезы.
— Привет, мама.
— Привет, мама.
Он вошел, разделся, стал отогреваться после декабрьского мороза. Отец сурово протянул руку, обнял. Брат тер глаза, стараясь победить беспробудный школярский сон.
— Наконец-то дома! Ну как ты?
— Нормально, мама. Поставь чайку.
— Нормально, мама. Поставь чайку.
За два года многое изменилось в том маленьком районе, где он жил, в их маленьком городке, да и во всей этой необъятной маленькой стране. Девяностые кончились. Люди вокруг зализывали хозяйственные и душевные раны, готовясь поднабрать жирок нулевых. У друзей появились первые серьезные деньги. Квартиры в ипотеку, машины и техника в кредит, новая музыка и шмотки — все это заманчиво блестело и манило.
Сладким воздухом гражданки не надышишься! От скользящих мимо машин и пешеходов, бегущих по делам, у Гоши кружилась голова. Столько судеб было устремлено каждая к своим звездам. Столько надежд тлело на кончиках сигарет в темноте ночных балконов.
Столько эректильной, созидательной энергии зрело в воздухе — вот-вот будущее проснется и брызнет на улицы и во дворы, заполнит подъезды и подвалы, утопит в густой, липкой жиже ветхие тротуары и пахнущие штукатуркой новостройки, аптеки и магазины, конторы и остановки общественного транспорта.
Мир вдруг стал близким и открытым, а Гоша в нем — сильным и большим. Жаль только потерянного времени. Жаль просранных идей и брошенных начинаний. Жаль, что не выучился. Жаль, что подсадил попутно Ваньку Звонарева, Ворона и Самоху, ну ничего тут не поделаешь, былого не вернуть.
Зато теперь он мог все. Его вены чисты, а сознание устремлено вперед, в будущее, в котором больше нет неразделенной любви, нет висящего над головой рокочущего облака неудач, нет Леры.
Мир вдруг стал близким и открытым, а Гоша в нем — сильным и большим. Жаль только потерянного времени. Жаль просранных идей и брошенных начинаний. Жаль, что не выучился. Жаль, что подсадил попутно Ваньку Звонарева, Ворона и Самоху, ну ничего тут не поделаешь, былого не вернуть.
Зато теперь он мог все. Его вены чисты, а сознание устремлено вперед, в будущее, в котором больше нет неразделенной любви, нет висящего над головой рокочущего облака неудач, нет Леры.
~
За два года армии она приехала к нему всего раз, перед Новым годом. Из писем пацанов он уже многое знал о том, как и с кем Лера ждет его на гражданке. На следующее утро после ее приезда, лежа в кровати на съемной квартире, он рассказал ей все, что о ней слышал. Правда или нет, не спрашивал. Через два часа Лера купила билеты на электричку и уехала домой.
Н-да.
Н-да.
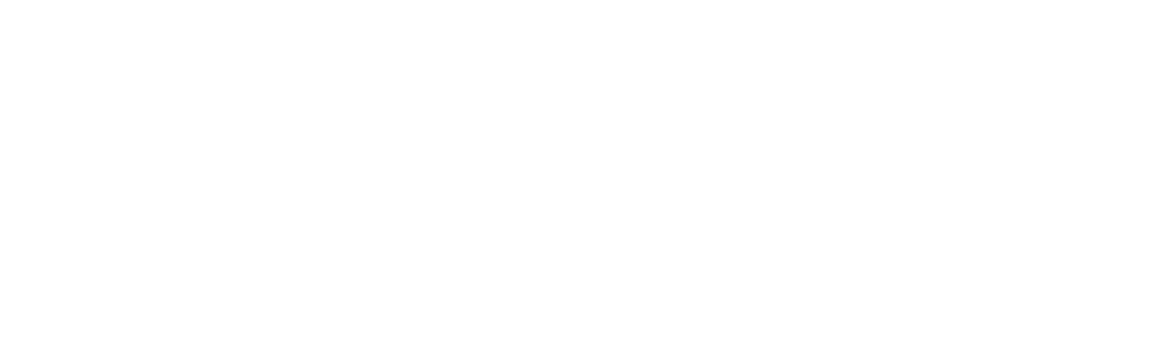
XXI. Куранты (Марина)
Яйца дембеля звенят, как кремлевские куранты. И как ничего другого, в эти долгожданные часы на воле, Гоше хотелось любви. В первый же вечер он увел девушку одного из друзей и чуть не трахнул ее в подъезде — дружок вовремя спохватился. А скоро заново открыл для себя Марину, подругу Леры, ту самую, которая когда-то, в прошлой жизни, их познакомила. До армии они почти не общались, а теперь она ему понравилась. В ней было что-то такое, чего ему давным-давно не хватало.
Красивая русская девчонка.
Округлые и симпатичные черты лица, голос низкий, наверное, потому что курила, твердый и целеустремленный взгляд, но улыбка... расплываясь по лицу, ее улыбка мигом разгоняла туман со сдвинутых бровей, покалывала озорством и легко перерастала то в очаровательное хихиканье, то в хохот. Не хохотнуть в ответ ей было невозможно.
Марина была противоположностью Леры.
«Нет, просто другой» — твердил Гоша, пытаясь не сравнивать их между собой. Марина — сильная, резкая и прямолинейная. Зато он всегда знал, о чем она думает. Она сама выбрала Гошу, вцепилась в него и не захотела отпускать, и ему это понравилось. Они стали жить вместе.
Гоша выбрал новую жизнь и нырнул в нее с головой. Говорят, устроился агентом по недвижимости — перепродавать квартиры и жить на процент от сделок. Говорят, что он чист, что избавился от меня. Говорят: вылечился. Как будто я — что-то сродни простуде или заболеваниям половых путей. Но я-то знаю, что все эти годы он так и норовил заглянуть ко мне, что он мечтал обо мне, что помнил.
XXII. Звонок
У меня еще никогда не было такого, как ты, Гоша. Светлый мой мальчик, мой маленький засранец. Мне жаль тебя, но я люблю тебя. А значит, я хочу тебя, и значит, я достану.
Я жму на рычажок и снова набираю твой номер. Я прекрасно помню его, хотя мы не виделись уже давно. Знаю, что и ты часто думаешь обо мне. Ублажая свою подружку в кровати, в мыслях ты где-то далеко. Там, где мы вместе.
С тех пор, как Гоша вернулся, шли дни и месяцы. Мои звонки раздавались когда угодно — рано утром, среди ночи или в разгар дня. Но он не брал, забивался в самый дальний угол своего сознания, закрывал глаза и обхватывал голову руками, чтобы не слышать, как я звоню тебе. Он не дышал, чтобы не чувствовать мой запах. Он старался не думать, потому что все мысли вели только туда, куда я покажу. Он зажимал рот, чтобы не вскрикнуть и не рассказать кому-нибудь о том, что он больше не может сопротивляться.
Я знал, что этот день наступит. Он наступает всегда и для всех, он не может не наступить. День, когда гудки заканчиваются, и кто-то на другом конце снимает трубку.
Обычный такой день.
Ты проснулся, а Марина еще спала. Ты умылся, посмотрел на себя — лицо серое, заросло щетиной, но бриться лень. Пошел на кухню. За окном лето, все зелено, в самом соку, только радости нет. Ты еще веришь в радость? Все как всегда, все приелось. Ты заварил черного чая, выпил, оделся. У выхода сел на старую коробку из-под обуви, прижался спиной к стене и откинул голову. Взял сигарету, но не успел поджечь, как где-то внутри тебя, а может, и в самой твоей голове раздался тот самый звонок. Ты закрыл глаза.
Ты закрыл глаза, и вот что ты видел. Перед тобой — ночной город, в центре которого стоит мрачный небоскреб. Ты распахиваешь двери, врываешься внутрь, ускользая от охраны, барабанишь кулаком по кнопкам лифта, но он неисправен. Ты бежишь к аварийной лестнице, минуя десятки этажей и сотни коридоров, полуосвещенных, сумрачных и запутанных, будто лабиринты, где навстречу тебе идут безликие люди-тени. Они не пускают тебя, но ты протискиваешься между ними, расталкиваешь их, валишь на коридорный пол, сминая в груду под ногами. Ты наступаешь им на лица и плечи, мнешь, словно пластилин, спотыкаешься, но бежишь дальше. Ты ломаешь двери, чтобы подняться на самый верх, на шпиль этой башни. Там, на крыше мира — всего одна комната. Ты забегаешь внутрь почти без сил, весь мокрый, с горячим высохшим дыханием. Комната пуста, длинный зеленый ковер ведет тебя к деревянному столу, где под узким пятном света от настольной лампы трезвонит дисковый телефон. Не переводя дыхания, ты срываешься к нему, хватаешь трубку и возбужденно, чуть не плача, во все горло шепчешь:
— да… да… Да… Я иду.
И идешь ко мне.
Я жму на рычажок и снова набираю твой номер. Я прекрасно помню его, хотя мы не виделись уже давно. Знаю, что и ты часто думаешь обо мне. Ублажая свою подружку в кровати, в мыслях ты где-то далеко. Там, где мы вместе.
С тех пор, как Гоша вернулся, шли дни и месяцы. Мои звонки раздавались когда угодно — рано утром, среди ночи или в разгар дня. Но он не брал, забивался в самый дальний угол своего сознания, закрывал глаза и обхватывал голову руками, чтобы не слышать, как я звоню тебе. Он не дышал, чтобы не чувствовать мой запах. Он старался не думать, потому что все мысли вели только туда, куда я покажу. Он зажимал рот, чтобы не вскрикнуть и не рассказать кому-нибудь о том, что он больше не может сопротивляться.
Я знал, что этот день наступит. Он наступает всегда и для всех, он не может не наступить. День, когда гудки заканчиваются, и кто-то на другом конце снимает трубку.
Обычный такой день.
Ты проснулся, а Марина еще спала. Ты умылся, посмотрел на себя — лицо серое, заросло щетиной, но бриться лень. Пошел на кухню. За окном лето, все зелено, в самом соку, только радости нет. Ты еще веришь в радость? Все как всегда, все приелось. Ты заварил черного чая, выпил, оделся. У выхода сел на старую коробку из-под обуви, прижался спиной к стене и откинул голову. Взял сигарету, но не успел поджечь, как где-то внутри тебя, а может, и в самой твоей голове раздался тот самый звонок. Ты закрыл глаза.
Ты закрыл глаза, и вот что ты видел. Перед тобой — ночной город, в центре которого стоит мрачный небоскреб. Ты распахиваешь двери, врываешься внутрь, ускользая от охраны, барабанишь кулаком по кнопкам лифта, но он неисправен. Ты бежишь к аварийной лестнице, минуя десятки этажей и сотни коридоров, полуосвещенных, сумрачных и запутанных, будто лабиринты, где навстречу тебе идут безликие люди-тени. Они не пускают тебя, но ты протискиваешься между ними, расталкиваешь их, валишь на коридорный пол, сминая в груду под ногами. Ты наступаешь им на лица и плечи, мнешь, словно пластилин, спотыкаешься, но бежишь дальше. Ты ломаешь двери, чтобы подняться на самый верх, на шпиль этой башни. Там, на крыше мира — всего одна комната. Ты забегаешь внутрь почти без сил, весь мокрый, с горячим высохшим дыханием. Комната пуста, длинный зеленый ковер ведет тебя к деревянному столу, где под узким пятном света от настольной лампы трезвонит дисковый телефон. Не переводя дыхания, ты срываешься к нему, хватаешь трубку и возбужденно, чуть не плача, во все горло шепчешь:
— да… да… Да… Я иду.
И идешь ко мне.
Другие рассказы