Дофамин
рассказ
За два месяца до того
— Так, что тут у нее?
Шебби распахнул сестринскую комнату ударом ноги. Он был невысокого роста и крепкого телосложения. Этот краснощекий громила — кровь, дерьмо и молоко, — висел на шее у одинокой матери, он и наркоманка-сестра. За нескладную фигуру, жирную, как у борова, шею и выбитый передний зуб сестра прозвала его Страшилой. Элли любила выдумывать имена.
Без особых церемоний он распотрошил постель, заглянул под кровать, смел с подоконника журналы, пустые сигаретные пачки, пожелтевшие мягкие игрушки и прочий хлам.
— Она не могла так просто съебаться. Полюбас что-то отложила на черный день.
Он перевернул матрас. На обратной стороне сестра расковыряла отверстие, в котором грелись маленькие ключики. Заприметив их, Шебби сразу догадался, где поискать.
— А у меня как раз такой денек и наступил.
Он вывернул наизнанку все ящики стоявшей рядом тумбы, пролистал каждую страницу каждой дебильной книжонки, обшарил каждый уголок, залез в каждую щёлку.
Шебби распахнул сестринскую комнату ударом ноги. Он был невысокого роста и крепкого телосложения. Этот краснощекий громила — кровь, дерьмо и молоко, — висел на шее у одинокой матери, он и наркоманка-сестра. За нескладную фигуру, жирную, как у борова, шею и выбитый передний зуб сестра прозвала его Страшилой. Элли любила выдумывать имена.
Без особых церемоний он распотрошил постель, заглянул под кровать, смел с подоконника журналы, пустые сигаретные пачки, пожелтевшие мягкие игрушки и прочий хлам.
— Она не могла так просто съебаться. Полюбас что-то отложила на черный день.
Он перевернул матрас. На обратной стороне сестра расковыряла отверстие, в котором грелись маленькие ключики. Заприметив их, Шебби сразу догадался, где поискать.
— А у меня как раз такой денек и наступил.
Он вывернул наизнанку все ящики стоявшей рядом тумбы, пролистал каждую страницу каждой дебильной книжонки, обшарил каждый уголок, залез в каждую щёлку.
За шесть недель до того
В пустой голове Элли пусто. В пустой головке пусто, пусто, пусто. Целая вселенная пустоты.
Язык онемел. Тело приятно покалывает. Трескучая сладость вьется дымком и перетекает из чашечки трубки в ее грудь, затем резко ударяет металлическим звоном в голову, а оттуда просачивается куда-то в эпицентр ее самой. Волны, прилив-отлив, набухшие соски айсбергов, крупный порошок снега, и вокруг белым-бело.
Перед тем, как отправиться в Рехаб на курс реабилитации, Элли припрятала дома четверть унции ониксов. Все, чего она теперь желала, умещалось в небольшом пакете с камушками.
— Ужасная ошибка. Пройти через все это, чтобы потом снова начать. — думала она, разглядывая изумрудный потолок.
Но обвинять себя не было смысла. По-другому она не могла поступить, знала, что начнет, уж это точно, 150 000%. Ониксы лежали в ее комнате, в запертом на ключ ящике прикроватной тумбы, в полупустом альбоме с детскими фотографиями. Она вцепится в них, как только останется в комнате одна, и больше никогда не отпустит.
Элли часами лежала без движения и смотрела, как переливаются огни ламп в больничной комнате. Мягкий и интенсивный неоновый свет выжигал на поверхностях предметов причудливые тени разных цветов. В ониксовом Рехабе все, включая стены и потолки, красили в яркое, белый был под запретом. Он соблазнял ониксоманов, напоминая о коротких вспышках приходов и вызывая тягу снова покурить.
— Вся эта пестрота здесь совершенно ни к чему, — думала Элли. — Лучше бы поклеили однотонные обои и чаще меняли простыни.
Язык онемел. Тело приятно покалывает. Трескучая сладость вьется дымком и перетекает из чашечки трубки в ее грудь, затем резко ударяет металлическим звоном в голову, а оттуда просачивается куда-то в эпицентр ее самой. Волны, прилив-отлив, набухшие соски айсбергов, крупный порошок снега, и вокруг белым-бело.
Перед тем, как отправиться в Рехаб на курс реабилитации, Элли припрятала дома четверть унции ониксов. Все, чего она теперь желала, умещалось в небольшом пакете с камушками.
— Ужасная ошибка. Пройти через все это, чтобы потом снова начать. — думала она, разглядывая изумрудный потолок.
Но обвинять себя не было смысла. По-другому она не могла поступить, знала, что начнет, уж это точно, 150 000%. Ониксы лежали в ее комнате, в запертом на ключ ящике прикроватной тумбы, в полупустом альбоме с детскими фотографиями. Она вцепится в них, как только останется в комнате одна, и больше никогда не отпустит.
Элли часами лежала без движения и смотрела, как переливаются огни ламп в больничной комнате. Мягкий и интенсивный неоновый свет выжигал на поверхностях предметов причудливые тени разных цветов. В ониксовом Рехабе все, включая стены и потолки, красили в яркое, белый был под запретом. Он соблазнял ониксоманов, напоминая о коротких вспышках приходов и вызывая тягу снова покурить.
— Вся эта пестрота здесь совершенно ни к чему, — думала Элли. — Лучше бы поклеили однотонные обои и чаще меняли простыни.
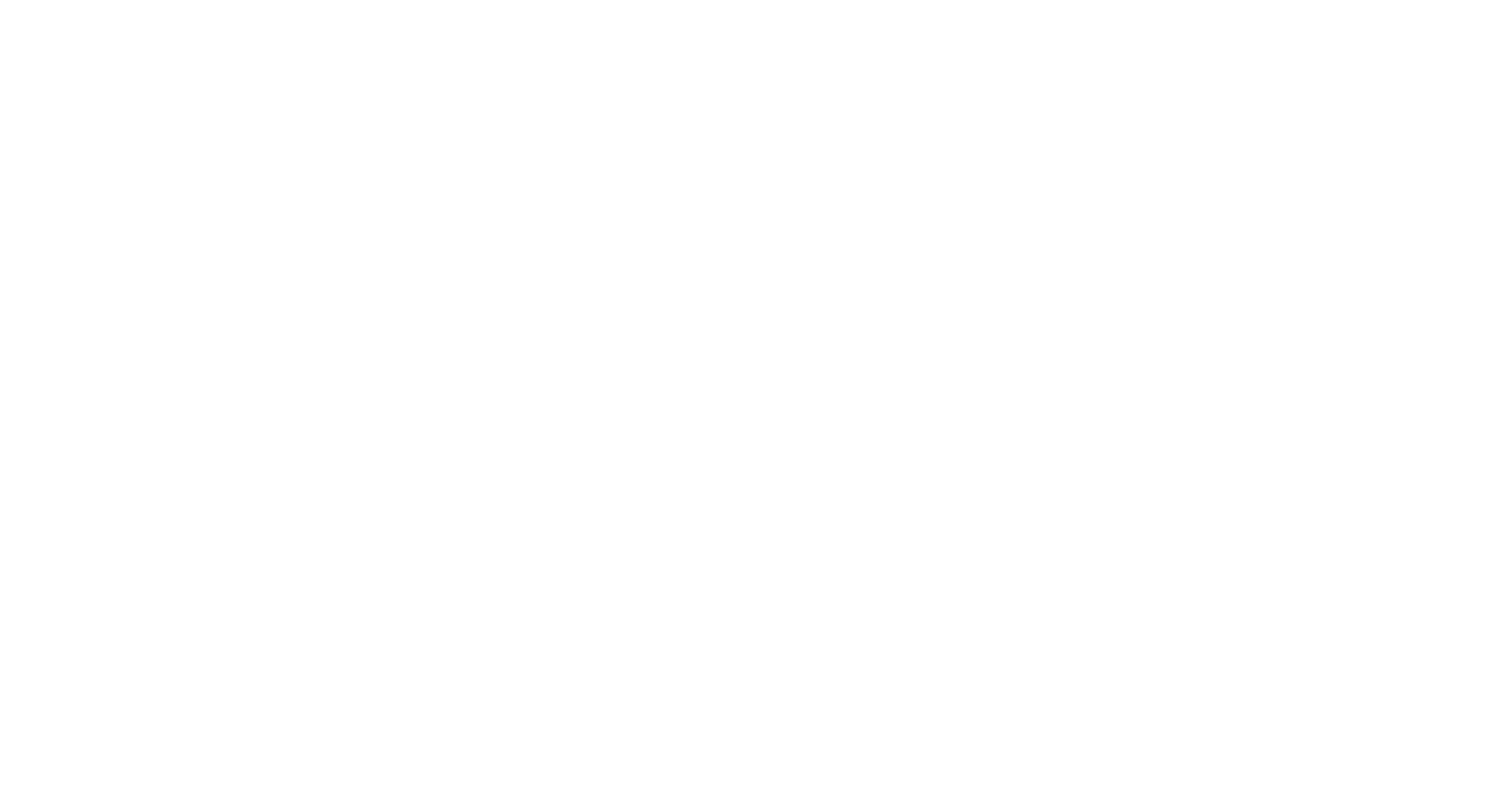
Элли решила лечиться добровольно. В последнее время она курила слишком много. Ей уже не хватало тех денег, что она клянчила у матери и друзей, а воровать или заниматься проституцией она себе не позволяла. Начались галлюцинации, и она больше не могла проглотить ни крошки. Исхудала и высохла, как ударенная молнией сосна.
Элли проходила курс реабилитации впервые. Она воспринимала Рехаб как кишащие паразитами джунгли: вечно несвежая постель и пахнущие лекарствами халаты, безвкусная кормежка и капельницы с подкрашенным раствором, опустошительные группы поддержки и ядовитая пестрота вокруг. Элли провела здесь три месяца, и от одной мысли о лечении тошнота подступала к ее горлу. Нет, ей больше сюда нельзя. Лечение хуже смерти.
Элли проходила курс реабилитации впервые. Она воспринимала Рехаб как кишащие паразитами джунгли: вечно несвежая постель и пахнущие лекарствами халаты, безвкусная кормежка и капельницы с подкрашенным раствором, опустошительные группы поддержки и ядовитая пестрота вокруг. Элли провела здесь три месяца, и от одной мысли о лечении тошнота подступала к ее горлу. Нет, ей больше сюда нельзя. Лечение хуже смерти.
За две недели до того
Брат заехал за ней на машине, он собирался сразу завернуть к дружкам, но Элли настояла: домой, и никаких посиделок.
Ониксов не было. Ее ониксов. Элли сразу поняла это, как только увидела свою идеально прибранную, просто вылизанную комнатку.
— Ебучий засранец Шебби, мать его так! — В голове у нее будто граната разорвалась. — Пидор, прикарманил мои камешки. Сейчас же пойду и оторву ему яйца. Запихну их ему в его проклятую варежку и заставлю проглотить, а когда проглотит, заставлю блевать и глотать заново. Вот козел! — Элли расплакалась и присела на край кровати.
— Эй, сис, все норм? — крякнул Шебби из коридора.
Элли тихонько притворила дверь, чтоб он не слышал, как она ревет, и тихонько опустилась на кровать.
— Милый братик. — она успокаивала сама себя. — Ведь он для меня старался. Ладно, не буду отрезать ему яйца… Сукин сын, Шебби, мать его. Страшила гребаный! Ну что я буду делать без своих камешков?!
Она устроилась продавцом в хозяйственный магазинчик. Надо было убивать скуку и хоть как-то помогать матери. Уже пятнадцать лет они жили без отца. Недавно у матери вырезали опухоль в груди, после чего та решила, что она не жилец, и стала тихо угасать, посвятив себя заботе о комнатных растениях, а не о собственных детях. Тогда Элли пришлось думать о том, как обеспечивать себя, мать и брата-тунеядца.
Шебби, ее брат, был из тех хороших мальчиков, которые из кожи вон лезут, чтобы казаться плохими и, в итоге, доигрываются до беды. Страшила получал неплохие отметки в школе, но ему не доставало старания выбиться в люди. Дружки то и дело тянули его на дно, а сам он был слишком бесхребетным, чтоб отказаться от них и пойти своей дорогой. Он так и не уехал из городка, чтобы выучиться на пожарного, как мечтал, когда был мальчишкой.
Шебби годами сидел без работы, пропадая с ребятами на «делах». Так он называл бездумное шатание по округе в поисках мелкой наживы. В остальное время таращился в телек, болел за самую неудачливую в мире футбольную команду, ремонтировал в гараже чужие тачки, периодически отвлекаясь на свой рыдван, и делал ставки на тотализаторе.
Покупателей в магазинчике было немного. Элли консультировала их, доставала с полок товары — автомобильные краски, скотч, щетки, коврики для обуви, батарейки и другую бытовую мелочь — потом приносила со склада и снова расставляла по полкам.
Есть приходилось в одиночестве, и это было самое трудное. Когда-то давно она была пылкой улыбчивой рыженькой девчонкой, которой нередко доставались взгляды симпатичных ребят из старших классов. Теперь у нее клочками выпадали волосы, убранные под фирменную кепку магазина, под рубашкой торчала батарея ребер, а острыми костяшками пальцев она могла проткнуть велосипедную камеру или пухленького соседского ребенка.
— Покупателям надо улыбаться, — так говорил старик Одноручка, хозяин магазина. Одна из его рук усохла еще в детстве. Он рассказал Элли, как однажды на спор положил ее под каток, а тот ни с того, ни с сего возьми и дернись. Он никогда не вынимал эту руку из кармана рабочей жилетки. — Вот и весь секрет. И говорить надо улыбающимся голосом. Попробуй-ка, Элли.
После реабилитации улыбка давалась Элли с трудом, к ней надо было себя готовить, отыскивать где-то в глубине души малейшие приязненные чувства и разогревать их, как позавчерашнюю лазанью. Было обидно, что никто не улыбался в ответ, но и плакать не хотелось. На слезы тоже нужны силы.
Элли доставала из микроволновки приготовленный дома обед и тихо поглощала его в подсобке, пока Одноручка болтал с заходившими по пути слесарями, домохозяйками и клерками из соседнего офисного центра, пока они покупали что-нибудь для предстоящего ремонта или пикника.
— Всего хорошего! Надеюсь, скоро увидимся! Заглядывайте почаще. — Одноручка расплывался в улыбке и махал здоровой рукой.
К пяти брат подъезжал на своем рыдване и забирал Элли домой. По пути они покупали продукты, иногда перекусывали где-нибудь или отправлялись в кино.
В этот раз Элли не захотела никуда ехать. Навела порядок в прихожей, помогла матери принять душ, в последнее время та с трудом двигалась самостоятельно. Она без сил легла на постель и опустилась в саркофаг сна без сновидений.
Ониксов не было. Ее ониксов. Элли сразу поняла это, как только увидела свою идеально прибранную, просто вылизанную комнатку.
— Ебучий засранец Шебби, мать его так! — В голове у нее будто граната разорвалась. — Пидор, прикарманил мои камешки. Сейчас же пойду и оторву ему яйца. Запихну их ему в его проклятую варежку и заставлю проглотить, а когда проглотит, заставлю блевать и глотать заново. Вот козел! — Элли расплакалась и присела на край кровати.
— Эй, сис, все норм? — крякнул Шебби из коридора.
Элли тихонько притворила дверь, чтоб он не слышал, как она ревет, и тихонько опустилась на кровать.
— Милый братик. — она успокаивала сама себя. — Ведь он для меня старался. Ладно, не буду отрезать ему яйца… Сукин сын, Шебби, мать его. Страшила гребаный! Ну что я буду делать без своих камешков?!
Она устроилась продавцом в хозяйственный магазинчик. Надо было убивать скуку и хоть как-то помогать матери. Уже пятнадцать лет они жили без отца. Недавно у матери вырезали опухоль в груди, после чего та решила, что она не жилец, и стала тихо угасать, посвятив себя заботе о комнатных растениях, а не о собственных детях. Тогда Элли пришлось думать о том, как обеспечивать себя, мать и брата-тунеядца.
Шебби, ее брат, был из тех хороших мальчиков, которые из кожи вон лезут, чтобы казаться плохими и, в итоге, доигрываются до беды. Страшила получал неплохие отметки в школе, но ему не доставало старания выбиться в люди. Дружки то и дело тянули его на дно, а сам он был слишком бесхребетным, чтоб отказаться от них и пойти своей дорогой. Он так и не уехал из городка, чтобы выучиться на пожарного, как мечтал, когда был мальчишкой.
Шебби годами сидел без работы, пропадая с ребятами на «делах». Так он называл бездумное шатание по округе в поисках мелкой наживы. В остальное время таращился в телек, болел за самую неудачливую в мире футбольную команду, ремонтировал в гараже чужие тачки, периодически отвлекаясь на свой рыдван, и делал ставки на тотализаторе.
Покупателей в магазинчике было немного. Элли консультировала их, доставала с полок товары — автомобильные краски, скотч, щетки, коврики для обуви, батарейки и другую бытовую мелочь — потом приносила со склада и снова расставляла по полкам.
Есть приходилось в одиночестве, и это было самое трудное. Когда-то давно она была пылкой улыбчивой рыженькой девчонкой, которой нередко доставались взгляды симпатичных ребят из старших классов. Теперь у нее клочками выпадали волосы, убранные под фирменную кепку магазина, под рубашкой торчала батарея ребер, а острыми костяшками пальцев она могла проткнуть велосипедную камеру или пухленького соседского ребенка.
— Покупателям надо улыбаться, — так говорил старик Одноручка, хозяин магазина. Одна из его рук усохла еще в детстве. Он рассказал Элли, как однажды на спор положил ее под каток, а тот ни с того, ни с сего возьми и дернись. Он никогда не вынимал эту руку из кармана рабочей жилетки. — Вот и весь секрет. И говорить надо улыбающимся голосом. Попробуй-ка, Элли.
После реабилитации улыбка давалась Элли с трудом, к ней надо было себя готовить, отыскивать где-то в глубине души малейшие приязненные чувства и разогревать их, как позавчерашнюю лазанью. Было обидно, что никто не улыбался в ответ, но и плакать не хотелось. На слезы тоже нужны силы.
Элли доставала из микроволновки приготовленный дома обед и тихо поглощала его в подсобке, пока Одноручка болтал с заходившими по пути слесарями, домохозяйками и клерками из соседнего офисного центра, пока они покупали что-нибудь для предстоящего ремонта или пикника.
— Всего хорошего! Надеюсь, скоро увидимся! Заглядывайте почаще. — Одноручка расплывался в улыбке и махал здоровой рукой.
К пяти брат подъезжал на своем рыдване и забирал Элли домой. По пути они покупали продукты, иногда перекусывали где-нибудь или отправлялись в кино.
В этот раз Элли не захотела никуда ехать. Навела порядок в прихожей, помогла матери принять душ, в последнее время та с трудом двигалась самостоятельно. Она без сил легла на постель и опустилась в саркофаг сна без сновидений.
Когда в городе появились ониксы
Ониксы появились в городе внезапно, и тут же все сошли с ума. Малолетки до соплей обкуривались в школьных туалетах разбавленными крошками; старики добывали камни вскладчину, чтобы под кайфом порезаться в картишки на лужайке; почерневшие от солнца попрошайки меняли горсти с мелочью на свежие купюры и вприпрыжку неслись к дилерам; прилизанные яппи козыряли отборными камнями перед расфуфыренными подружками.
Это было весело. В какой-то момент город накрыла ониксовая волна: на камнях сидели политики и судьи, бизнесмены и общественные деятели, полицейские шефы и их подчиненные, преступные доны и шестерки, работяги с завода и мойщики машин, абитуриенты и выпускники колледжей. Социальная служба зафиксировала несколько случаев, когда ониксы курили семьями.
Это было весело. В какой-то момент город накрыла ониксовая волна: на камнях сидели политики и судьи, бизнесмены и общественные деятели, полицейские шефы и их подчиненные, преступные доны и шестерки, работяги с завода и мойщики машин, абитуриенты и выпускники колледжей. Социальная служба зафиксировала несколько случаев, когда ониксы курили семьями.

Пришла первая зима. Город утонул в снегу. Под белым покровом приход было не отличить от отходняка, и все, кто курил, дружно поплыли в никуда. Слишком много белого — слишком много камней. Передозировки ониксами не были мучительными — люди просто засыпали, могли не просыпаться несколько суток или переставали просыпаться вовсе. За одну только зиму городское кладбище распухло от тысячи-другой ониксоманов.
В тот день
Когда Элли проснулась, субботнее утро медленно катилось к полудню. Было тихо, в доме хозяйничал белый шум. Телек в гостиной молчал, а из колонок брата не долбили, как обычно, тупые басы или незамысловатые гитарные риффы ска. Элли включила и выключила ТВ. Готовить завтрак не хотелось, как не хотелось и всего остального.
— Куда все подевались? Ушли на работу? Сидят по своим комнатам, уставившись в телек? Втихаря напиваются? Трахаются?
Элли открыла окно. Во дворе напротив старик-сосед расхаживал вокруг радиоприемника, делая вид, будто подкрашивает облупленную оконную раму. Через дорогу стайкой назойливых воробушков щебетали дети. Сосед покрутил антенну приемника и, опустив кисть в банку эмали, ненароком смахнул ее с подоконника. Густая паста растеклась по траве, образовав яркую лужицу. Краска была белая-белая-белая. Элли передернуло, кончики пальцев похолодели и задрожали. На долю секунды ей показалось, что она справится.
Подружка из театральной студии как-то сказала ей, что ониксы обладают своим голосом.
— Если ты понравилась им, то этот голос селится у тебя в голове.
— Кому — им?
— Ониксам, дуреха.
— И о чем они говорят?
— Да обо всем. У меня мой требовал ещё ониксов.
Элли знала, что надеятся не на что, и все же зашла в комнату брата. За полтора года она ни разу не слышала голоса камней, но сейчас ей будто кто-то приказал заглянуть в задние карманы брошенных на стул треников. Там вместе с обкусанной жвачкой и чьим-то телефоном на мятом огрызке бумаги притаились камушки. Но не те, что Шебби забрал у нее. Те выглядели как слоистый янтарь и светились солнечно-пивной желтизной. В этих камнях слои были черными и белыми. Ювелирные камушки.
— Открой блядский пакет и возьми меня в руки. — рявкнул самый большой, самый лакомый камень. От голоса Верзилы, — так она прозвала его, — Элли поначалу испугалась, но ослушаться не смела.
Она перерыла пол-комнаты в поисках трубки. В итоге пришлось достать свою. Элли заныкала ее в плафоне люстры у себя в комнате.
— Только этот, большой. Только один и все, иначе брат убьет, когда узнает. Покурю и посижу во дворе, а может быть, выберусь в город, куплю что-нибудь маме.
Верзила продолжал гавкать:
— Да, телка! Запихни-ка меня в трубу и скорей кончим с этим.
— Может быть, еще вот этот. — Элли аккуратно опустила в чашечку крохотный кусочек.
— Незабудка. Меня зовут Незабудка. — пропищала крошка.
— Незабудка, какое красивое имя!
— Давай, телочка, скорей! Да что ж ты медлишь, корова? — свирепел Верзила, то и дело норовя выпрыгнуть из чашки.
Трубка была коротенькая — чтобы не упустить ни глотка драгоценного дыма. Губы Элли обожгло, но струя анестезии подействовала моментально, язык онемел и дрожь в теле растворилась.
— Ахр-р. — радостно забурлил Верзила. — Возгонка пошла, блядь, чертовщина-то какая!
— Прощай, Элли! — хихикнула Незабудка. — Привет, дофамин!
Приход был сильный, и в то же время мягкий и прохладный, будто на голову разом вывалился 5-метровый пуховый сугроб. Столб снега, в котором можно было зарыться, как в одеяле, и прожить целую чёртову жизнь, не высовываясь наружу.
Элли села на край кровати. Она почувствовала себя гориллой в вольере. Однажды она видела такую же в зоопарке, куда ее водили папа с мамой, когда отец еще жил с ними. Совершенный покой, умиротворение, ни одного, даже самого маленького чувства. Эмоции притуплены и сглажены, пульс ровный, ровнее, чем заснеженный горный склон. Горилла замерла посреди сугроба, плывущего посреди самой пустоты. И вдруг тоненький детский голосок:
— Ау. Ау, мамочка, это я.
— Кристина? — горилла, недоумевая, повела бровью.
— Удивительно. — горилла неуклюже заерзала на краешке кровати, ища удобное место.
Элли ничего не знала о Кристине. В Рехабе у неё был один несимпатичный, но настойчивый санитар. Еще был Чарли, безвылазная звезда программы реабилитации; врачи говорили, что ему никогда не выкарабкаться. Она и не могла знать, срок еще не пришел. Горилла только поняла, что внутри нее теплится новая жизнь, что сердечко маленького, еще не родившегося живого существа бьется теперь во чреве большой беременной самки примата.
Понемногу пустота рассеялась, и сквозь снег в вольере проступили очертания комнаты. Подобрав ноги, горилла сидела, прислонясь к стене. Элли почувствовала новую волну голода, и принялась осматривать постель и пол.
— Кристина… маленькая! — чуть было не всплакнула она, но мысли о дочери тут же рассеялись, потому что она до усрачки захотела еще раз затянуться.
— Не осталось ли какой-нибудь, ну хоть малюсенькой, — горилла теребила пальцами одеяло, мясистой черной ладонью обшаривая холодный пол, — самой маленькой крошки?
Отчаявшись хоть что-то найти, Элли выбрала из пакета камешек поменьше и без раздумий запустила его в чашечку.
— Куда все подевались? Ушли на работу? Сидят по своим комнатам, уставившись в телек? Втихаря напиваются? Трахаются?
Элли открыла окно. Во дворе напротив старик-сосед расхаживал вокруг радиоприемника, делая вид, будто подкрашивает облупленную оконную раму. Через дорогу стайкой назойливых воробушков щебетали дети. Сосед покрутил антенну приемника и, опустив кисть в банку эмали, ненароком смахнул ее с подоконника. Густая паста растеклась по траве, образовав яркую лужицу. Краска была белая-белая-белая. Элли передернуло, кончики пальцев похолодели и задрожали. На долю секунды ей показалось, что она справится.
Подружка из театральной студии как-то сказала ей, что ониксы обладают своим голосом.
— Если ты понравилась им, то этот голос селится у тебя в голове.
— Кому — им?
— Ониксам, дуреха.
— И о чем они говорят?
— Да обо всем. У меня мой требовал ещё ониксов.
Элли знала, что надеятся не на что, и все же зашла в комнату брата. За полтора года она ни разу не слышала голоса камней, но сейчас ей будто кто-то приказал заглянуть в задние карманы брошенных на стул треников. Там вместе с обкусанной жвачкой и чьим-то телефоном на мятом огрызке бумаги притаились камушки. Но не те, что Шебби забрал у нее. Те выглядели как слоистый янтарь и светились солнечно-пивной желтизной. В этих камнях слои были черными и белыми. Ювелирные камушки.
— Открой блядский пакет и возьми меня в руки. — рявкнул самый большой, самый лакомый камень. От голоса Верзилы, — так она прозвала его, — Элли поначалу испугалась, но ослушаться не смела.
Она перерыла пол-комнаты в поисках трубки. В итоге пришлось достать свою. Элли заныкала ее в плафоне люстры у себя в комнате.
— Только этот, большой. Только один и все, иначе брат убьет, когда узнает. Покурю и посижу во дворе, а может быть, выберусь в город, куплю что-нибудь маме.
Верзила продолжал гавкать:
— Да, телка! Запихни-ка меня в трубу и скорей кончим с этим.
— Может быть, еще вот этот. — Элли аккуратно опустила в чашечку крохотный кусочек.
— Незабудка. Меня зовут Незабудка. — пропищала крошка.
— Незабудка, какое красивое имя!
— Давай, телочка, скорей! Да что ж ты медлишь, корова? — свирепел Верзила, то и дело норовя выпрыгнуть из чашки.
Трубка была коротенькая — чтобы не упустить ни глотка драгоценного дыма. Губы Элли обожгло, но струя анестезии подействовала моментально, язык онемел и дрожь в теле растворилась.
— Ахр-р. — радостно забурлил Верзила. — Возгонка пошла, блядь, чертовщина-то какая!
— Прощай, Элли! — хихикнула Незабудка. — Привет, дофамин!
Приход был сильный, и в то же время мягкий и прохладный, будто на голову разом вывалился 5-метровый пуховый сугроб. Столб снега, в котором можно было зарыться, как в одеяле, и прожить целую чёртову жизнь, не высовываясь наружу.
Элли села на край кровати. Она почувствовала себя гориллой в вольере. Однажды она видела такую же в зоопарке, куда ее водили папа с мамой, когда отец еще жил с ними. Совершенный покой, умиротворение, ни одного, даже самого маленького чувства. Эмоции притуплены и сглажены, пульс ровный, ровнее, чем заснеженный горный склон. Горилла замерла посреди сугроба, плывущего посреди самой пустоты. И вдруг тоненький детский голосок:
— Ау. Ау, мамочка, это я.
— Кристина? — горилла, недоумевая, повела бровью.
— Удивительно. — горилла неуклюже заерзала на краешке кровати, ища удобное место.
Элли ничего не знала о Кристине. В Рехабе у неё был один несимпатичный, но настойчивый санитар. Еще был Чарли, безвылазная звезда программы реабилитации; врачи говорили, что ему никогда не выкарабкаться. Она и не могла знать, срок еще не пришел. Горилла только поняла, что внутри нее теплится новая жизнь, что сердечко маленького, еще не родившегося живого существа бьется теперь во чреве большой беременной самки примата.
Понемногу пустота рассеялась, и сквозь снег в вольере проступили очертания комнаты. Подобрав ноги, горилла сидела, прислонясь к стене. Элли почувствовала новую волну голода, и принялась осматривать постель и пол.
— Кристина… маленькая! — чуть было не всплакнула она, но мысли о дочери тут же рассеялись, потому что она до усрачки захотела еще раз затянуться.
— Не осталось ли какой-нибудь, ну хоть малюсенькой, — горилла теребила пальцами одеяло, мясистой черной ладонью обшаривая холодный пол, — самой маленькой крошки?
Отчаявшись хоть что-то найти, Элли выбрала из пакета камешек поменьше и без раздумий запустила его в чашечку.
Снег. Снег. Снег. Снег.
Снегснегснегснег
С Н Е Г
снег
*
Снегснегснегснег
С Н Е Г
снег
*
Снег валился на пол хлопьями размером с ладонь. Подоконник, тротуар, дорога и лужайка перед домом оказались закопанными под толщей холодного хлопка. Сугробы сияли, накачанные неоновым газом. Снег шел в прямом эфире телестудии, в снегу захлебнулась оставленная в раковине зубная щетка, снег струями бил в стекло душевой кабинки.
Кажется, Кристина заснула.
— Как же этому трехнедельному комочку счастья идет это имя. — Горилла решила обойти территорию. Она грациозно встала на задние лапы и потянулась к дверце вольера.
Элли дотянулась до оконной ручки, нажала на нее — вот она, свобода — и перемахнула через подоконник на улицу. Сосед, кажется, ничего не заметил, продолжая ковыряться в оконной раме. Элли взяла в руку пачку опавших, охристо-бардовых листьев. Они были мясистыми и сочными на вкус, но Элли швырнула их обратно на землю. Она вовсе не была голодна.
Недалеко от дороги молчаливо спрятались аккуратные зеленые холмики. Казалось, что из-под снега на их вершинах торчат листья папоротника.
— Какие привлекательные. — подумала горилла и поковыляла к ним, отталкиваясь от земли внешней стороной полусогнутых ладоней. На верхушках маленьких, в половину ее роста, холмиков, лежали снежные шапки, и ей во что бы то ни стало захотелось сбить их.
Горилла в два прыжка достигла цели, забралась наверх — четыре одинаковых, удивительно ровных холма, источавших аромат свежей зелени.
— Мамочка, ура! Мамочка! — проснулась Кристина. — Снег! Я еще не успела родиться, а уже видела снег! Какой же он красивый! До чего же хорошо! Нет ничего лучше снега, правда, мамочка?!
Горилла довольно проурчала в ответ.
— Искупай меня в снегу, мамочка! Закопай меня в этом восхитительном снегу! — Кристина ликовала. Элли легла и вытянулась. Пластиковые крышки мусорных баков давили в спину. Горько воняли кухонные отбросы. Она широко открыла глаза и ей показалось, что это с неба облетает штукатурка и что скоро везде будет белым-бело. Она закрыла глаза и стала загребать руками нежнейший снег.
— Вот так, мамочка. Вот так. Как же я люблю тебя! — Малышка была на седьмом небе от счастья.
— Боже, она размером с ноготок, может, с кулачок маленького мальчика, но уже такая умненькая и знает столько всего. — Горилла погладила животик.
Кристина, кажется, услышала ее мысли, тихонько замурлыкала, подвинулась всем своим крохотным тельцем ближе к ее ладони и тут же уснула. Чтобы ей было поуютней, горилла глубже зарылась в снег.
Кажется, Кристина заснула.
— Как же этому трехнедельному комочку счастья идет это имя. — Горилла решила обойти территорию. Она грациозно встала на задние лапы и потянулась к дверце вольера.
Элли дотянулась до оконной ручки, нажала на нее — вот она, свобода — и перемахнула через подоконник на улицу. Сосед, кажется, ничего не заметил, продолжая ковыряться в оконной раме. Элли взяла в руку пачку опавших, охристо-бардовых листьев. Они были мясистыми и сочными на вкус, но Элли швырнула их обратно на землю. Она вовсе не была голодна.
Недалеко от дороги молчаливо спрятались аккуратные зеленые холмики. Казалось, что из-под снега на их вершинах торчат листья папоротника.
— Какие привлекательные. — подумала горилла и поковыляла к ним, отталкиваясь от земли внешней стороной полусогнутых ладоней. На верхушках маленьких, в половину ее роста, холмиков, лежали снежные шапки, и ей во что бы то ни стало захотелось сбить их.
Горилла в два прыжка достигла цели, забралась наверх — четыре одинаковых, удивительно ровных холма, источавших аромат свежей зелени.
— Мамочка, ура! Мамочка! — проснулась Кристина. — Снег! Я еще не успела родиться, а уже видела снег! Какой же он красивый! До чего же хорошо! Нет ничего лучше снега, правда, мамочка?!
Горилла довольно проурчала в ответ.
— Искупай меня в снегу, мамочка! Закопай меня в этом восхитительном снегу! — Кристина ликовала. Элли легла и вытянулась. Пластиковые крышки мусорных баков давили в спину. Горько воняли кухонные отбросы. Она широко открыла глаза и ей показалось, что это с неба облетает штукатурка и что скоро везде будет белым-бело. Она закрыла глаза и стала загребать руками нежнейший снег.
— Вот так, мамочка. Вот так. Как же я люблю тебя! — Малышка была на седьмом небе от счастья.
— Боже, она размером с ноготок, может, с кулачок маленького мальчика, но уже такая умненькая и знает столько всего. — Горилла погладила животик.
Кристина, кажется, услышала ее мысли, тихонько замурлыкала, подвинулась всем своим крохотным тельцем ближе к ее ладони и тут же уснула. Чтобы ей было поуютней, горилла глубже зарылась в снег.

Неподалеку прошуршали колеса авто.
— Вот мы и дома, ма. — Шебби метнулся к багажнику, чтобы достать покупки. Мама замешкалась, держа в руках сумочку и полупустой пакет с засахаренным мармеладом. Открыв дверь, она увидела, как Элли пристроилась между разворошенными мусорными баками. Ногами она зарылась в коробки из-под яиц, бутылки и гнилые овощи, а руками делала странные движения, будто пыталась намазать на грудь целлофановые пакеты и апельсиновую кожуру.
— Боже, что она… здесь… в одной рубашке?
Пакеты рухнули из рук Шебби, и его глаза налились кровью. Он подбежал к мусорным контейнерам, схватил Элли за воротник, рывком стащил на землю и несколько раз ударил лицом об асфальт. Шебби обо всем догадался, но сейчас хотел не столько избить ее, сколько привести в чувство. Он встал поудобнее, чтобы хорошенько дать сестре под дых, но тут горилла проревела:
— Я оставила немного. У тебя в комнате.
Голос сестры и кровь на ее лице привели его в чувство, волна ярости отхлынула. Чтобы сбавить псих, Шебби пнул жестянку из-под пива. Так пробивают заслуженный одиннадцатиметровый. Отлетев от мусорки, банка со скрежетом покатилась по асфальту и запуталась у Элли в волосах. Шебби сплюнул и, позабыв о пакетах, побежал в дом.
— Вот мы и дома, ма. — Шебби метнулся к багажнику, чтобы достать покупки. Мама замешкалась, держа в руках сумочку и полупустой пакет с засахаренным мармеладом. Открыв дверь, она увидела, как Элли пристроилась между разворошенными мусорными баками. Ногами она зарылась в коробки из-под яиц, бутылки и гнилые овощи, а руками делала странные движения, будто пыталась намазать на грудь целлофановые пакеты и апельсиновую кожуру.
— Боже, что она… здесь… в одной рубашке?
Пакеты рухнули из рук Шебби, и его глаза налились кровью. Он подбежал к мусорным контейнерам, схватил Элли за воротник, рывком стащил на землю и несколько раз ударил лицом об асфальт. Шебби обо всем догадался, но сейчас хотел не столько избить ее, сколько привести в чувство. Он встал поудобнее, чтобы хорошенько дать сестре под дых, но тут горилла проревела:
— Я оставила немного. У тебя в комнате.
Голос сестры и кровь на ее лице привели его в чувство, волна ярости отхлынула. Чтобы сбавить псих, Шебби пнул жестянку из-под пива. Так пробивают заслуженный одиннадцатиметровый. Отлетев от мусорки, банка со скрежетом покатилась по асфальту и запуталась у Элли в волосах. Шебби сплюнул и, позабыв о пакетах, побежал в дом.
Пять лет спустя
Когда Кристине было четыре, она часто говорила Страшиле про снег из ее снов. Ее матери уже два года как не было в живых, и Шебби заменял малышке отца. Он был не самым удачным отцом, надо сказать.
— А, снежок. — блеял он, не отрываясь от телевизора. Страшила в очередной раз был в завязке, задолжал дружкам и почти не выходил из дома.
Элли умерла мгновенно. В голове у неё тогда было белым-бело. Она шла по тротуару мимо проезжей части, через дорогу громоздился редкий лес. Ей почудилось, что кто-то из леса позвал её. Это было дерево, оно басовито проскрипело:
— Подойди ко мне. Я кое-что тебе покажу.
Элли без раздумий перелезла через ограждение и потопала по дорожному полотну. Она не успела пройти и трёх метров, как её сбила машина.
— Чёртовы ониксоманы. — из машины вылез престарелый водитель. Даже не пытаясь оказать первую помощь, он вызвал скорую. Водила был опытный и много такого повидал. Он знал, что пытаться спасти девчонку бесполезно, рано или поздно она всё равно отдаст концы.
— Дьяволово семя. — Водила сплюнул на асфальт и сел в машину ждать медиков.
Элли ничего не почувствовала. Белый кокон снега защитил её от удара. Просто на этот раз она решила не выбираться наружу.
— А, снежок. — блеял он, не отрываясь от телевизора. Страшила в очередной раз был в завязке, задолжал дружкам и почти не выходил из дома.
Элли умерла мгновенно. В голове у неё тогда было белым-бело. Она шла по тротуару мимо проезжей части, через дорогу громоздился редкий лес. Ей почудилось, что кто-то из леса позвал её. Это было дерево, оно басовито проскрипело:
— Подойди ко мне. Я кое-что тебе покажу.
Элли без раздумий перелезла через ограждение и потопала по дорожному полотну. Она не успела пройти и трёх метров, как её сбила машина.
— Чёртовы ониксоманы. — из машины вылез престарелый водитель. Даже не пытаясь оказать первую помощь, он вызвал скорую. Водила был опытный и много такого повидал. Он знал, что пытаться спасти девчонку бесполезно, рано или поздно она всё равно отдаст концы.
— Дьяволово семя. — Водила сплюнул на асфальт и сел в машину ждать медиков.
Элли ничего не почувствовала. Белый кокон снега защитил её от удара. Просто на этот раз она решила не выбираться наружу.
Как-то раз Кристина провела полчаса в сугробе в летних туфельках и чуть не отморозила ножки. Кончики пальцев потемнели. Она и не думала, что снег может быть таким холодным.
Кристина всю жизнь ненавидела зоопарки. Там держат в клетках ни в чем не повинных животных, а другие животные таращатся на них, воображая, что это весело и что они что-то знают об этом долбаном мире.
Кристина всю жизнь ненавидела зоопарки. Там держат в клетках ни в чем не повинных животных, а другие животные таращатся на них, воображая, что это весело и что они что-то знают об этом долбаном мире.